Анатолий Кобенков-русский советский поэт.
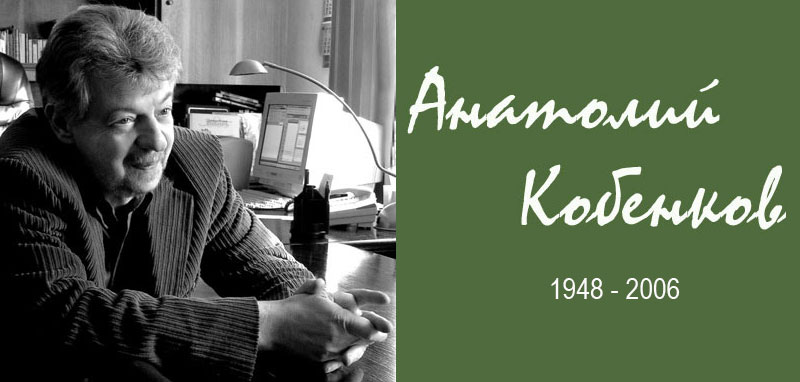
Космос Анатолия Кобенкова
Из книги судеб: Анатолий Иванович Кобенков (9 марта 1948, Хабаровск – 5 сентября 2006, Москва) – русский советский поэт, эссеист, литературный и театральный критик, переводил еврейских, латышских и польских поэтов.
Анатолий Иванович Кобенков родился в Хабаровске. Мать, Дора Давыдовна Кобенкова, работала учительницей английского языка.
Вырос и учился в Биробиджане, где дебютировал в областной газете «Биробиджанская звезда».
Учился в Хабаровске, старшие классы заканчивал в вечерней школе, одновременно в 1964 – 1966 годах работал слесарем, учеником токаря, потом токарь второго разряда. В 1966 – 1970 годах – рабочим геологоразведочной экспедиции в Уссурийской тайге. Поступил в Литературный институт имени А. М. Горького на заочное отделение, в связи с призывом в армию приостановил учёбу в Литинституте.
Служил в рядах Советской армии под Хабаровском.
В 1973–1978 годах работал редактором радио Ангарского нефтехимического комбината (Ангарск, Иркутская область), в 1978–1991 корреспондентом газеты «Советская молодёжь» (Иркутск).
В 1978 году принят в Союз писателей СССР.
В 1980 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького.
В начале 1990-х годов внутри Иркутской писательской организации возник разлад, причины которого носили политический и национально-культурный характер. В 1992 году образовалось Иркутское региональное отделение Союза российских писателей, в которое наряду с другими 10-ю писателями вошёл и А. Кобенков. После ухода из жизни Анатолия Шастина и Марка Сергеева, возглавлявших его Иркутское отделение, А. И. Кобенков стал руководителем этой организации.
С 1992 года вёл детскую театральную студию при школе-лицее № 47 города Иркутска, вёл на телеканале «Город» (Иркутск) ежедневную передачу, рассказывающую о книжных новинках.
С июня 1997 года ответственный секретарь Иркутской организации Союза российских писателей.
С 2005 года проживал в Москве.
Анатолий Иванович Кобенков умер 5 сентября 2006 года в Москве. Отпевание состоялось 8 сентября 2006 года в церкви Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке. Похоронен на Переделкинском кладбище.
Автоэпитафия
Ничего не остаётся –
Только камни да песок,
Да соседство с тем колодцем,
Что к виску наискосок.
Никуда уже не деться –
Успокойся, помолчи...
Пусть дорога по-над сердцем
Рассыпающимся мчит, –
Xорошо бы к ней пробиться
Чем-то вроде родника –
Пусть и птица, и девица
Припадут к нему напиться...
Выпей мой зрачок, девица,
Чрез соломку червячка!..
Русаку и иудею,
Как русак и иудей,
Я взываю, как умею:
Влажной смертушкой моею
Свою грядочку залей...
Возвращение
«Мадам, уже падают листья...»
Весь вечер под этот мотив
я с милой женою кружился,
действительный срок отслужив.
А вечер был тёплым и длинным,
и было открыто окно
в деревья, где пух тополиный,
и птицы, и полутемно;
и весел я был не от водки, –
я просто от радости пел,
и сын в моей старой пилотке
на нашей кровати сидел...
Я с милой женою кружился
и плечи её целовал,
и сын мой поэтому злился,
и я ему честь отдавал,
пока мы ещё не сдружились,
пока он командовал мной...
И жёлтые листья кружились,
когда я вернулся домой...
Жук
Жук не жужжал. Он пел, а не жужжал!
Подумайте,
зачем ему жужжанье
в тот час,
когда спешит он на свиданье
с желанною!
Но – воздух возражал:
брюзжал, –
тебе послышалось: жужжал...
И жук летел, и песнь его летела
с ним рядышком,
дрожа, держась за тело
легчайшее
и, если б кто разжал
плотнейший воздух,
ты бы понял – дело
лишь в том,
что воздух песне возражал...
* * *
…искать табак, бродить по коридору,
пытать собаку, где он может быть,
четвёртого числа задёрнуть штору
и, может быть, к двадцатому открыть;
унизить спирт водою кипячёной
и, заплутав в подсчётах кораблей,
воспомнить друга, пьющего по чёрной,
а пишущего – прочих посветлей;
сыскать табак, по самую уздечку
забить им чашу – трубкой задымить:
сложить кольцо, завить его колечком,
помешкать и верёвочкой завить…
* * *
Когда б я жил столетие назад,
бродил бы я с шарманкою весёлой,
меня б дарили тёплым хлебом в сёлах,
а в городе давали шоколад,
и я бы пел,
верней, моя рука
мелодию из круга выводила,
и музыка б по городу бродила,
и плакала на чёрных чердаках –
её бы обнимали мужики,
слегка царапал мишка косолапый,
и музыка б с меня снимала шляпу,
и падали бы в шляпу медяки...
И я всю жизнь любил бы жизнь свою.
А по ночам,
как добрая крестьянка,
смотрела бы весёлая шарманка,
как я устал,
как хлебушек жую...
* * *
Когда Чингиc из юрты выходил,
славянская княжна глядела в небо –
капризничала, тучи прогоняла,
чтоб высмотреть славянскую звезду.
И мнилось ей – в часовенке вселенной,
свечу затеплив и уста настроив,
её сестра – по крови и купели –
кладёт кресты, чтоб ангела зазвать…
«Кому повем?...» – и стряхивает ангел
с летучих крыл ольховую серёжку…
«Кому повем?» – и чёрным многокрыльем
зашторивает ангела Чингиc…
Круг
А между прочим,
началась весна.
И хрупок воздух, как обёртка сна,
а там, где жизнь о время укололась,
на песенке сошлись –
мой хриплый голос
и твой, простуженный,
и тишина...
А день подрос –
явились облака.
Ещё как новобранцы, неуклюжи,
они себя рассматривают в лужах,
а те блистают в рамочках ледка;
А ветер ищет ноты –
нотный ключ
по ручейкам гуляет –
в том и этом...
А у провинциального поэта
четырнадцатая за апрель любовь.
И потому к планетам и предметам
он громко обращается:
– Любовь
Ивановна!
А Люба Иванова
купила шляпу –
при своей обнове
она плывёт, как шляпа по воде...
На веточках, на форточках –
везде,
где невозможно спрятаться от грусти,
расплакались сосульки;
каждый кустик
наполнен влагой...
Всякая душа
летит туда,
где сыновья народов
являют миру мужества пример –
там Фёдоров живёт, грустит Жюль Верн,
пенсне теряет мудрый Циолковский...
Мне грустно оттого,
что, будучи подростком,
и я там был,
я взрослый потому,
что там не интересен никому...
Однако я увлёкся небесами,
в то время как живу под небесами...
А на земле
меж тем, пока я пел,
свершился круг цветенья –
увядают
мои сады,
и птицы покидают
моё окно,
сегодня мой балкон –
крупнейший коллекционер печали:
кузнечики с озябшими плечами
и бабочки с увядшими очами
его интересуют...
Телефон –
как будто отключили:
немы рощи;
как будто накрутили патефон
(шуршание и шёпот) –
флаг полощет
над райсоветом,
и редеет круг
моих друзей и, кажется, подруг...
Но мысль моя по-прежнему тепла:
земля кружится, значит, мысль кругла,
и что под небесами не случится –
всё – повторится,
ибо – возвратится...
Земля кругла.
То, что она кругла,
не школа мне сказала.
Как ни странно,
об этом мне поведала Татьяна –
четвёртого апреля,
в три часа,
после уроков –
множество столетий
тому назад...
И птичьи голоса
защебетали:
– Это правда, дети:
земля кругла.
Как поцелуй, кругла
прямая времени,
кругла любви прямая –
почётный круг над миром совершая,
она обходит тысячи планет...
Потом она звезда...
Никто не знает,
когда она погаснет –
ни поэт,
ни звездочёт, ни Люба Иванова...
А между тем и Люба Иванова –
уже давно не Люба Иванова,
и наш поэт – нисколько не поэт.
Лежит в земле старуха Иванова,
молчит старик под памятником новым –
поэта нет.
И Любы тоже нет.
Сомкнулся круг печали и обмана,
плывёт над миром веточка тумана,
а над землёю радуга повисла...
Я не ищу особенного смысла
в том, что она сегодня поднялась
из маленькой могилы Ивановой,
и в том, что полоснув по голубому,
над памятником новым сорвалась...
Пришла весна, она уже у нас.
* * *
Мотивчик бы сыскать, чтоб – жизни не смешнее
и чтобы – из неё и, в то же время – над;
чтоб книги не слышней, но ангела слышнее,
и чтобы – этот миг и этот листопад:
и Репин и Сезанн: и охряной, и алый;
и Книга Бытия, и Книга Перемен…
Славянская фита и иудейский алеф;
и запад, и восток: и когито, и дзен;
и без стиха Платон, и без него стрекозы,
но братец им Франциск, а родственничек – Даль…
О, Розановский бес с крапивкой от Спинозы,
О, Эпикуров дух, рассыпавший миндаль…
Кому из вас подпеть – кому из вас темнее
без песенки моей? объединившись с кем,
жить, книги не слышней и жизни не смешнее –
кому мотивчик мой, кому его повем?..
Одесские стихи
Мне кажется –
я снова в детстве,
где так понятны сизари...
Хороший человек Одесса
мне дарит улочки свои.
Смешаю шум дождя и ветра,
полёты чаек,
улиц дрожь.
Запомню это
бабье лето:
карнизы с ангелами,
дождь;
запомню дворик,
старый-старый,
как будто песенка без слов;
как тёплых женщин Ренуара,
запомню мудрых стариков,
что сядут на морском бульваре
от десяти до десяти,
как будто сам товарищ Бабель
их попросил сюда прийти...
Одесса!
Я сегодня мальчик.
Кладу в карман кленовый лист,
спускаюсь в маленький подвальчик,
на двадцать две ступеньки вниз.
Там по стаканам бродят вина,
и пробкой выбит потолок.
Там винных запахов лавина
пол выбивает из под ног.
Там капитаны полупьяны,
и со столов,
вниз головой,
летят горячие стаканы
в честь одесситки молодой...
А я не пью.
Я просто сяду
за крайний столик,
мне с руки
закончить глупую балладу,
начать печальные стихи.
Там ветер,
бухта,
капитаны,
огни далёких кораблей,
и пахнут рыбою каштаны,
как фартук бабушки моей
Осень
Григорию Кружкову
Снег – за углом, а бабочки и птицы,
за сто земель, за тридевять морей...
То наркоман, то бомж к нам постучится,
то беженка застынет у дверей, –
И так их много, так их зовы часты,
Настолько мы навстречу им бежим,
что кажется: какой-то главной частью
мы не себе, а им принадлежим...
* * *
Покупаю для свинарки жемчуг,
начерняю душу для чернил,
пью вино, обманываю женщин,
Пушкина любил да разлюбил.
Выхожу с подружкой на дорогу –
получаю более того,
чем я стою, обращаюсь к Богу,
с лавочником путая Его.
Мыкаюсь с утра на Литургии
и в теченье нескольких минут
зрю воочью: батюшки нагие,
померев, пред Господом встают…
Лажу дачу, получаю сдачу:
похожу с годами на отца:
прячу, прячу – всё никак не спрячу
бесову поклёвочку лица…
* * *
Полугорсть толпы, полуперсть народа,
избирательный голос, электорат –
я вставал с утра по гудку завода,
обрывал свой сон по рожку менад…
Сочинитель гаек, шуруподатель,
укротитель возгласов, строчкогон,
я скорей точитель, чем избиратель,
и скорее голубь, чем гегемон:
принимает втулочка вид товарный,
осыпаются с рифмочек карандаши…
О, станок токарный, рожок янтарный –
двоеперстье бедной моей души –
над стернёй, которая колос клонит,
над зерном, которое спит во рву,
над страной, которую то хоронят,
то поют, выкапывая к Рождеству…
Романс
Стылый вечер, мартовское крошево,
Хриплое дыханье аонид…
Спи, мой ангел – что-нибудь хорошее
Сретенка тебе да насулит.
Смятый вечер, даль не проутюжена,
Затерялись маковки во мгле…
Спи, мой ангел, горе обнаружено –
Завтра не бывать ему в Кремле…
Поздний вечер, пахнет разносолами,
Рюмочка то плачет, то поёт…
Спи, мой ангел – что-нибудь весёлое
Для тебя Хитровка наскребёт.
Чёрный вечер, мартовское кружево,
Сновиденье матовое для,
Спи, мой ангел – счастье обнаружено
Далеко-далече от Кремля…
* * *
Спасибо всему, что на этой земле
ещё остаётся: Строке, на столе
сомкнувшей крыла свои; свету,
Который, как мы с тобой, тысячи лет
отыскивал эту планету.
Спасибо всему, что случилось: губам
распахнутым, снам, что наснились,
Спасибо ломившимся к нам тополям
за то, что они были дадены нам
на счастье и в счастье сложились.
Спасибо за то, что могу говорить:
– Спасибо, – за то, что могу повторить:
– Спасибо, – и вновь повториться:
– За то, что нас жизни возможно лишить,
а жизнь ничего не лишится.
* * *
–…этот воздух в ясеневой листве
припадает ясеневыми губами
на дворе – к траве, на траве – к Москве,
а в Москве – к не бродившей Москвою маме,
и становятся губы её Тверским,
а потом – Страстным, а когда – Неглинной:
узелком – житейским, узлом – морским,
расставаньем – кратким, а жизнью – длинной…
Так мерцает счастье в моей беде,
обрастая сутью, ибо в итоге
всяк, глядящий на воду – кружок воде,
всяк, глядящий вдаль – посошок дороге
* * *
Я лодку оттолкну, и на весло –
со мною заодно – налягут разом
глухой Гомер, прищуренный Калло
и вверх ногами мыслящий Эразм:
плывём – живём; и не живём – плывём;
то птичка повстречает нас, то ослик;
плывём – поём; и не плывём – поём
(и перед смертью, и задолго после)...
уткнёмся в ад – свистулек наберём
да посвистим, и то-то будет посвист...





___keepration_220x220.jpg)


