А. И. Глинкина - Невольное детство
В этой книге известная народная певица Аграфена Глинкина раскрывает в своих воспоминаниях образным народным языком живые картины русской деревни в предреволюционную пору, в эпоху коллективизации и колхозов, во время Великой отечественной войны и в послевоенные годы.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Аграфена Ивановна Глинкина и ее жизнеописание
Аграфена (Агриппина) Ивановна Глинкина (в девичестве Колымагина) (1898-1971) - замечательная певица из народа, завоевавшая заслуженное признание среди знатоков, любителей, ценителей русского песенного фольклора. Обладательница мягкого, теплого по тембру голоса, чрезвычайно музыкальная, умеющая передать в своем пении глубокие человеческие чувства и переживания, она, начиная с 1951 года, когда показала свое певческое искусство в Москве, стала сперва желанной гостьей в Московской консерватории, в Московском университете, среди специалистов-фольклористов и студентов, изучающих народную музыку. Затем, когда в конце 1960 -начале 1970-х годов в Москве стали проходить музыкально-этнографические концерты, проводимые Фольклорной комиссией Союза композиторов Российской федерации, Аграфена Ивановна Глинкина своим проникновенным исполнением песен Смоленского края покорила сердца серьезной взыскательной столичной слушательской аудитории - композиторов, музыковедов, ученых-филологов, художников. И, наряду с маститыми представителями творческой интеллигенции - восприимчивой ко всему новому, интересному, неожиданному учащейся молодежи.
Фольклористом-музыковедом Галиной Борисовной Павловой совместно с крупным исследователем народной музыки Анной Васильевной Рудневой был издан нотных сборник смоленских песен, записанных с голоса А. И Глинкиной, включающий 86 примеров . Была выпущена грампластинка, в программе которой содержатся несколько песен из репертуара этой даровитой песельницы, уроженки деревни Дедёнки под Монастырщиной. А всего память Аграфены Глинкиной сохранила свыше трехсот песен глубинного смоленского села, богато представляющих западнорусскую народную песенную традицию. Они запечатлены в звукозаписях, хранящихся в архиве Научного Центра народной музыки К. В. Квитки в Московской консерватории. Недавно голландской фирмой Pan Records выпущен компакт-диск, содержащий в числе прочих смоленских песен и инструментальных наигрышей 7 песен разных жанров в исполнении А. И. Глинкиной. Образцы записанных от нее песен включены в учебную хрестоматию для музыкальных училищ , в научно-популярную книгу (в программе приложенного к ней компакт-диска) . К мелодиям из репертуара этой подлинной хранительницы сокровищ народного музыкального творчества обращались современные композиторы (Н. Пейко, Н. Кутузов, М. Ермолаев-Коллонтай). Таким образом, певческое искусство Аграфены Ивановны достаточно разнообразно и основательно представлено в печатных изданиях, дискографии, музыкальных аранжировках. Имя ее хорошо известно в кругах специалистов-фольклористов и ценителей музыкального фольклора.
И в то же время мало кому известно, что А. И. Глинкина обладала прекрасным литературным даром. Ею была написана талантливая автобиографическая повесть под заглавием «Невольное детство». Закончено было это произведение в конце 1950-х годов. Машинописный его вариант, составленный с помощью филологов, заинтересовавшихся литературным творчеством певицы, был предоставлен ею самою автору этих строк. Оригинал рукописи хранится в Государственном литературном музее.
Много лет мемуары А. И. Глинкиной лежали на полке: не находилось возможности их издать.
И вот наконец представленной на конкурс рукописью заинтересовались. Повесть А. И. Глинкиной выиграла издательский грант. Однако для подготовки этого литературного памятника к печати потребовалась особая специальная редакционная работа.
Дело в том, что, по словам самой писательницы, она была «одного года грамоты»: всего один год проучилась в сельской школе. Поэтому писала Глинкина, словно вела устный рассказ, со многими нарушениями правил литературной орфографии и пунктуации. И филологи, работавшие над рукописью, в её машинописном варианте постарались сохранить своеобразие авторского оригинала, не производили его литературную правку и обработку. И были правы.
Манера повествования Аграфены Ивановны близка натуральному свободному речевому изложению, с его естественными шероховатостями, даже некоторыми неловкостями. Но это придаёт литературному стилю автора из народа особую живость, непосредственность. К тому же деревня, в которой выросла Глинкина, находится в переходной языковой зоне между говорами России и Белоруссии. И хотя семья Глинкиных долгие годы жила под Москвой, в Можайском районе, в речи Аграфены Ивановны сохранились некоторые характерные смоленские диалектизмы. И поскольку в белорусском правописании многие слова как говорятся, так и пишутся, редактором было решено не менять авторскую орфографию, несколько приблизив се к белорусской и в некоторой мере приравняв написание слов к той форме, какая принята у диалектологов. Тем самым, как представляется, язык сохраняет близость к характеру живого смоленского говора.
В то же время для удобства чтения знаки препинания в основном расставлены по правилам литературной пунктуации. И словах исправлены очевидные описки. В оригинале некоторые слова написаны вместе с предлогами, как единое целое, и наоборот - одно слово иногда выглядит как два. Такие очевидные погрешности по отношению к современной грамматике в тексте устранены. Некоторые диалектизмы, которые поддаются переводу на литературный русский язык, пояснены в примечаниях. В то же время тем, кому не понятно то или иное слово, можно обратиться к диактологическим словарям.
Чем же могут привлечь мемуары А. И. Глинкиной современного читателя? В предлагаемой для прочтения книге правдиво, достоверно, образно отражена жизнь русской деревни в труднейший и богатый событиями период истории России - с начала до середины XX столетия. Свои воспоминания Аграфена Ивановна озаглавила «Невольное детство», хотя на самом деле она описывает в них почти всю свою жизнь. Именно детские годы определили отношение автора к революционным преобразованиям в сельской жизни после Октябрьского переворота.
С малых лет пришлось девочке Груне гнуть спину на пана, остро ощущая несправедливость рабского угнетения и грубых унижений со стороны барских прислужников. Именно поэтому передел земли, отобранной у помещика и переданной крестьянам, представляется сельской писательнице справедливым. Полностью принимает она и коллективизацию. По представлениям Глинкиной, если относиться к труду добросовестно и вести хозяйство грамотно, умело, колхозные порядки дают полную возможность крестьянам жить достойно, в достатке. И, наблюдая развал колхозов в послевоенное время, Аграфена Ивановна объясняет происходящее безответственностью самих колхозников, разучившихся работать старательно и заинтересованно, а также бессовестным отношением некоторых колхозных руководителей к своему служебному долгу. Примечательно, что Глинкина была в последние годы жизни внештатным корреспондентом районной газеты и гневно критиковала наблюдаемые в колхозе неполадки и недостатки.
В своих воспоминаниях Аграфена Ивановна рельефно и образно воспроизводит жизнь русской деревни в предреволюционные годы, во время Первой империалистической войны, после установления советской власти, в период НЭПа, при создании колхозов. Полны трагизма страницы, посвященные страданиям сельских жителей, перенесенных в период фашисткой оккупации и военных действий.
Среди современных русских писателей есть такие, кто родился в сельской местности, а потом переехал в город, где получил соответствующее образование. Мы знаем много произведений литературы, связанных с темой русского села. Однако обычно это все-таки взгляд как бы со стороны, из городского далека. А повествование А. И. Глинкиной ведется изнутри, ее зарисовки берутся из непосредственных наблюдений над происходящим вокруг.
И здесь проявляется яркий литературный талант писательницы. Перед нами проходит ряд персонажей, наделенных характерными индивидуальными чертами, и воспроизводятся события, к которым автор имеет свое собственное оценочное отношение. Что-то ему нравится, вызывает теплые чувства и положительные эмоции. В иных же случаях читатель ощущает негодование, возмущение, даже отвращение автора к описываемым фактам. Привлекает в манере повествования тонкий лукавый юмор.
Главная героиня произведения - сама Глинкина. Она наделяет себя сугубо положительными чертами, подчеркивая в своем характере решительность, энергию, выносливость, большую работоспособность, справедливость, честность. И это как бы дает ей право с уверенностью судить о том, что в ее окружении хорошо, а что - плохо. Описывая свои детские годы, писательница проявляет себя как тонкий психолог.
Интересны воспоминания Глинкиной с этнографической стороны. С малых лет девочка начала петь, со временем приобретая все большее вокальное мастерство. Поэтому в девичестве Аграфена постоянно включалась в сельские молодежные игры, обряды, гуляния в качестве участницы развлечений и в роли певицы. Глинкина хорошо знала народные обычаи и картинно описала их. Пела она и одна, по настроению. Поэтому по ходу повествования в книге упоминаются разнообразные песни и приводятся их слова. Это как бы песенный комментарий к тому или иному описываемому событию, его образное толкование.
Чтобы читатель смог полнее представить себе, какой характер имеют упоминаемые в книге песни, к ней прилагается компакт-диск, в котором песни расположены в том порядке, как они представлены в повествовании. Добавлены некоторые яркие примеры, не упоминаемые в книге.
Входящие в компакт-диск образцы взяты из магнитофонных звукозаписей, произведенных от А. И. Глинкиной в начале 1950-х годов сотрудниками Кабинета народной музыки Московской консерватории. Из каждой песни выбирались для записи начальные строфы, чтобы запечатлеть напев. Поскольку большинство называемых в книге песен приводится с полными словами, материал компакт-диска можно использовать н в практических целях, если кто-то пожелает сам освоить и воспроизвести своим голосом понравившиеся ему примеры. К тому же здесь запечатлен голос певицы в относительно ранний период ее жизни, когда ей было слегка за пятьдесят: он звучит легко, свежо, красиво. В таком виде звукозаписи пения Аграфены Глинкиной еще не предлагались широкому слушателю. К сожалению, аппаратура в те годы была ещё не совершенной, поэтому в звучании звукозаписей встречаются технические погрешности, иногда слышатся посторонние туки. Однако характер пения Аграфены Ивановны достаточно точно передаётся.
Автор этих строк был близко знаком с Аграфеной Ивановной, поскольку при ее жизни постоянно общался с ней и как специалист-фольклорист, и в чисто человеческом плане. Часто бывал в гостях у супругов Глинкиных в деревне Шваново под Можайском, где они жили в отстроенном после военного разорения доме. Иногда к ним приезжали из Москвы погостить сын Михаил, внук Славик.
Муж, Яков Ефремович, относился к Глинкиной с большой любовью и почтением. Аграфена Ивановна обладала характером властным, настойчивым, требовательным. И в то же время покоряла большой добротой, живым и острым восприятием жизни.
Она любила и чувствовала природу, охотно собирала в лесу ягоды, грибы. Знала лечебные свойства трав. Умело обрабатывала свой огород. Выпасала несколько коз. Выкармливала поросёнка. Держала кур. И часто пела, как бы для себя, во время выполнения тех или иных дел - за рукоделием, у печки, на лугу, сторожа свою животину.
Глинкина была превосходной рассказчицей. При каждой встрече с ней в ее избушке, за заботливо накрытым столом доводилось слушать подробные и увлекательные истории о происшедших за последнее время деревенских событиях. И каждую из них она умудрялась преподнести ярко и увлекательно. Аграфена Ивановна вполне могла бы написать еще одну книгу, уже о своих подмосковных деревенских соседях и знакомых, о жизни послевоенного колхозного села.
В последние годы жизни Аграфена Ивановна была в ореоле славы. Она с большим успехом участвовала в музыкально-этнографических концертах. Выступала по телевидению. Снималась в художественном кинофильме. Ей выхлопотали персональную пенсию.
На праздники в честь очередной годовщины Октябрьской революции в 1971 году эта во многих отношениях талантливая женщина вернулась в Шваново с киносъемок, проводившихся на Каме-реке. Приехал в гости сын. За праздничным завтраком Аграфена Ивановна выпила маленькую рюмочку («лафетничек», как она говорила) водки («лекарственно», по ее словам). Возбужденно рассказывала о своих успехах киноактрисы. Разгорячённая, радостная, вышла на террасу... и упала, мгновенно рассталась с жизнью: кровоизлияние в мозг.
Вскоре скончался и Яков Ефремович. Нет уже в живых и сына Михаила, и сестры Анны.
Но память об этих прекрасных людях запечатлена в книге, которая предлагается вниманию читателей.
Думается, многое можно почерпнуть для себя из этого содержательного и высоко-художественного повествования о нашем сравнительно недавнем прошлом.
В. Щуров
Невольное детство

Часть 1
Это было 58 лет назад, когда была невольная жизнь детства. Я жилаю описать про себя и моих подруг и сравнить эту жизнь, это время, детскую жизнь, хотя в Ленинское и Сталинское время ребенок можить учится, докуда он желаит и быть может большим человеком. А старое время при царе нужно было работать на помещика, отцам и матерям, а дети были совсем беспризорные и памагали дети домашния дела делать.
Но в детей что-то было организованное и коликтивная. Вот соберемся к нашему двору и делаим савищания: к кому вперед пойдем траву рвать для поросят. А поросят была в каждом доми по два, а то и три в некоторых было. Из нас были старше по годам Мотя, я годами помоложе. За Моти - Таня мне равесница. Наташа была старше всех нас. Но па работи старшенство брала я. Я назначаю: кому вперед пойдем убираться. В первый дом -Тани, Моти, Наташи. К себе я иду убираться самая последния, чтоба не было на нас обиды от товарищей.
Вот работа закипела, кто траву рвет, кто рубит, кто мишает и раздает парасятам мешену, все делалас очень быстро, чтоба успеть все поделать во всех домах. Если остается в нас время, сбегаим в речку покупаться, поплавать, каналы поделать в песке. Когда бежим к речки, ище на ходу все снимим рубашку или платице и мчимся, как вихрь. Очень хорошо, что обдает нас ветер на ходу: то очен теплой падует, то напрахладнии. Какая мая удавольствия было, что пятками себе доставали ударять в задницу. Поетому и сначала раздивалис: в рубашки ни так слышно и видно, обо что ударяишь. Купалис тоже очень дружно: малинькия дети около берега в мокром песочке сидят, их обдает волной. Постарше плавают, ныряют, щелык делают, бурдят воду до пены. Я с падругай Мотей очен любила плавать на выгонки, кто каво обгонит, и сколько раз проплывем через речку не отдахавши. Речку нашу назавали Вихра, в нашей деревни она была ширины метров 20, а можит и поширше.
Ну, выкупалис. Нужно нести обедать в поля: матерям, отцам, братьям, сестрам. А были такия, что детей не было в них. Ну и этим захватиш кусок хлеба и бутылку квасу. Вернемся домой - готовимся к вечиру, к уборки за скатиной. А выпадет времечко - попрыгаем в саломи, когда воз саломы привезин во двор и обёрнут блиска крыши. Эта нам была радость и большое удовольствия прыгать с крыши прямо в салому. Да ище как разденимся: сначала снимим рубашки. А рубашки были одинаковы - что у девочик, что у мальчиков, ис грубаго холста самодельнова. Ище нарошно шыли нам рубашки погрубей, чтоба меньше рвали. Снявши рубашки, мы литали голинькия с крыши прямо в салому. И мы себя представляли как ангилы гасподния, а как напрыгаимся, обдерем всю кожу на спине и на пузе, на баках - охоту сгоним прыгат. А тело соднит - мочи нет. Тут еще рубашка грубая дереть тела - хоть караул кричи! На ночь снимиш рубашку, а то не уснеш в рубашки.
То время мальчики до 7-8 лет ни насили штаники: и понятия не имели. А рубашку подлиньше сошьют - и хорошо!
Ложились спать часто одне дети, старших не дожидались: отец и мать позна приходили домой с панской работы. Иногда даже не заходя домой, а прямо идут в ноч работать на свою палоску к луне или свету звезд. Васпользуются светом и жадно работают: жнут, косют почти до самого утра. Несмотря что день полной и жаркий, работали без отдоха в помещика. Наутра приходит мать вперед за отца, берется печку тапить. Остальную работу всю нам доделовать придётся. Не успеит мать стапить печку, как по деревни едит управляющий пана и заказаваит обратно на работу. А работали маи родители и соседи у пана за пазбище: что скотина ходила па панским лугам и кустарникам и негодным лугам ко скосу. За это работали почти безвыходно на панском дворе. Если имет кристьянин лошидь, жеребенка, корову, подтелка, три овцы - две десятины должин обработать, на зиму вспахать на своей лошеди. Придёт весна -три раза пабороновать и засеить пад картошку, навоз вывизть. Засеить, конечно, пансками семинами. Патом - пропалоть от сырнеков. Приходит синакос - нужно скосить, высушить и свезть на болшей двор, где складавалось сена под крышу. Сена законьчилась - начинаится возка навоза. В Петровский пост возют. Навоз клали очень густым слоим. Запаховать было очень тежело - плугами и на своих лошедях. Так же начинаится жатва: нужно жать, поставить, а потом свёс в сарай - и обмалатить, и в закром всыпат зерна. Омбары были почти полкиломитра и палны насыпаны зерна. Нарабатавалос это зерно все чужим гарбом.
В нашего помещика была два имении на тысячи десятин: одно была имения в Белорусии и вторая - в нас, в Смаленьщини. Между этага имения была наша земля надельная 7 деревен. Вокруг этаго имения был панский лес. Однем словом, в какой бок не ступи - везде на панскую землю. За карову, овцу, курицу - и все отрабатавать приходится. Примерно в нас было 35 домов деревня, а земли было только 170 десятин са всей невдобией (То есть - неудобными землями, негодными для обработки.). А к этаму ище хлеба не хватало в кристьян, приходилос занимать в помещика или в еврея. А детвора даже не понимали, что есть частини (Честное - гостинец, принос, подарок (ВлДаль).) - булачка или баранка. Конфетки были - леденцы, а самая была ида хлеб. Но хлеб был невеинай, с мекиной. Это назавался палавай. А хлёбова была - крупеня с ячменных круп. Если постояла - то вода, крупа и только. Не солют - и было харошо. А в месаед - то немножко паложут мясца, или кружку молока вальют в суп. А чугун варили большей, чуть ли не ведро. Пачему так мало клали приправы - или не было, или не умели сготовить - этава я не могла знать.
А постов было много в году: перед Филиповской пост шесь недель, это Рождествеинский, потом 7 недель перед Пасхай. Потом - Петровский пост. Етот бываит неравной: когда 5 недель, когда - 3 недели. Он относится к Рождесьтвенскому месаеду. Еще малинкай Спасовский - 2 недели перед праздником Приображения, 6 августа. Боже спаси, если ребенку дадуть молочка трехлетниму: эта нильзя была, седи и кушай крупеню. А малако сливали в катку и квасили на творог, и посли пасхи хлибали ето кислое молоко. Называлас она зимавуха. В нашей месности на рынок не продавали: никто не покупал, панятия не имели прадавать малака. И впрочем, и коровы тогда давали доинка 4-5 литра в сутки. Кармили только саломой, а сена корове не полагалось, потому что его не было.
Тепер мой возраст вже подашёл, я начинаю работать, мне вже исполнилось 7 лет, восьмой. Мать начинает меня учить прясть на веритене, и мне как-то скоро шла работа на руки. Я выучалас быстро на веритене и на самапрядки: вертет ногой самопрядку, и скусть мычку с гребня. Не слюнять, мокро намачивать нитку, чтоба не лохматая была нитка, а блистящия была нитка. И я в одну зиму научилас харашо прясь. Я вже начила ходит в супрядки к Аришки, одинокой малодушки. С падругами Тани и Моти я вже на выгонки пряла, и пели песни. Канечно, я знала лучше всех песни, самаго малаго возраста у меня был талант на песни. Запевала я эту песню: «Преди, мая пряха, преди, раскурьвяка. Ой, лелюшки, лели - при-пев. А пряла б я, пряла, на меня лень напала. Меня в гости звали к саседу в беседу. И нашего соседа висила беседа. А кто у нас холост, холост - нежинатый, белый кудрюватый? А Ваничка холасть, холасть, - нежинатый белай кудрюватый. Он едит жениться, под ним конь бадрится. Кнутиком намашить - под ним коник пляшит».
С песней быстрей пряла вот эта самая Аришка. Она жила без мужа, только с мальчиком трехлетним. Звали его Герасим, а её прозвали соломенная вдова. Мы ходили к ней в супрядки. И мы Аришки были нужны в памогу: когда она пойдёт за водой, за дравами, Герасима не с ким оставить - он оставался с нами. Аришка готовила лучину к вечиру: светит, при лучине хараше была прясть, очень была тепло. Мы сарафаны снимим и в однех рубашках так и предем. Только очень была дымно, и горький дым выедал глаза до слез. Но другого выхода не было, кроме лучины: кирасину не на что было купить. Муж Аришки то время был молодой просто красавец: среднего роста, глаза черные, брови пышные, волос тоже черной, а лице была белая, розовае, как кровь с малоком. Эта мы его такого запомнили, когда он приезжал в гости. Он нам расказавал про Москву, какая Москва хорошая и как в ней хорошо жить, что там гарят фанари и лампы, а у нас горить лучина. Но больше всево расказавал про Дальгамилово, где он жил и работал на заводе. Жил он с другой женой или с любовницей, а жена его Аришка жила без мужа, поэтому ее и прозвали в деревни саломиная вдова. Аришка была маленького росточка, лице было пухленькое: ни росту, ни красоты в ней не было. Только умела много песен петь и пела про свое горе, какое она переживала. Вот и я нескольким песенкам научилась от нее. Вот ее песня: «Хорошо тому на свете жить, у кого нет заботушки, а во мне-то, в молодешенке, есть работушка - заботушка. Вот и первая заботушка - чужая дальняя сторонушка, вторая та заботушка несогласная семеюшка, а третья заботушка - мой миленькой горькая пьяница. В кабачёк идет - ругается, с кабачка идет - валяется. Заставляет молодешеньку да за пьяницей ухаживать. Ах, и мне, младе, не хочется коло пьянова ворочится. Мои рученьки беленькие, на руках кольца ясненькие».
В Петровский пост возят всегда навоз у помещика. Урывками рано утром возят дома, возов 5, 4 свезут на свою полоску. Вдруг приезжает пригонятый панский и приказывает: собирайся навоз возить. Все дома бросают и едут на панский двор навоз возить. Все разом семь деревень на дворни народу и телег с лошадьми запреженных - не повернется. Вот и меня в этот день взяли за погоньщика лошадей водить с навозом. Мне было семь лет, восьмой. Я один раз свела лошадь в поля. Туда я вила в руках - и с пустой телегой тоже вила в руках. Садится на телегу грязную и вправлять возжами - я еще этого не умела, за какую возжу тянуть вправо или влево, чтобы не зацепиться. Нацеплялись почти за каждаю телегу, меня ругали мальчишки и даже кнутом замахивались на меня - зачем я за их телеги цепляюсь.
Я надумала убежать домой еще до обеда и бежала по всей дворне. А у пана такие были злые собаки, и много их было. Они никого не пропускали чужого - абязательно разарвут, а меня они как-то пропустили, ни один не залаил и не вкусил - только обступили меня, руки лижут, морду тоже лижут, за пазухой нюхают. Я им взяла - отдала свой обед - кусок хлеба и крошку селедки. Они меня даже и за дворню проводили. Я их называла Полкан, Шарик, Дружек. Они готовы со мной итти до самого моего дома, но их окликнули работницы помещика: они думали, что они меня оборвут. Работницы стригли овец, овцы большие, хвосты в них длинные. Работницы были одеты в самотканых юбках, юбки клетками: черная клетка и красная клетка. Прибежала я домой. Мать спросила, почему я пришла, и кто меня отпустил, и знает ли сестра Дуня, с которой я уехала навоз возить? Я ответила, что я никому не сказала, ушла потому, что мне не понравилось на панском дворе. Правда, мать меня ничем не наказала, еще отпустила купаться в речку.
Эта мое было самое любимое дело - купаться в речке, плавать, навсячески перевертываться, навзнич и ничком, и плавать всякими манерами. И забыла, что сделала сестре большое беспокойство. А сестра у всех деревенцев переспросила, беспокоится: одно, что лошадь некому водить, второе, что девчонки нет, раздумывай по-разному, где делась. А я дома преспокойно купаюсь, рада до смерти, что мать дома, я освобождена от домашних работ.
Вот пришёл обед, прибегает сестра Дуня с панского двора, вся запыхавшаяся, разволнованная, спрашивает у матери: дома я? А мать говорит: она давно дома. Я иду с речки такая жизнерадостная, весёлая. Но радость и веселье мне обошлось горькими слезами. Сестра Дуня была очень обозлена на меня, она столько мне всыпала кулачков в горб, что я и по сие время помню те кулачки. Назавтра тоже поехали туда же, только меня уже не пустили одну, а я была под надзором других, а учиться надо на помещика работать.
В то лето меня стали приучать бороновать самой. Это сестра Дуня. Она ведет пару лошадей впереди за поводья, а меня посадит верхом на лошадь, я еду вслед. Ну, лошадь идет, куда ей удобно, а ни туда, куда надо. Тут мне еще бахлавка папала до слез, только тем хорошо, что все печали быстро проходили. В один конец еду - плачу, в другой конец поверну - уже песни пою во весь дух, вот эту песню: «Вы подуйте ветры, ис чистого поля, из густого жита. Вы несите, ветры, моему батьки вести. А что в нас с милым и совету нету, и любви мало». Песня так поется, а я пела ее сестре, а что у нас с Дуней и совету нету, и любови мало. Дуня сперва разозлится, а потом и рассмеется. И говорит: вот черт, а не девка - хоть до смерти убей, а она все свое творит из озорства.
Потом поехали пахать на паньщину: отец мне запрег лшадь и взял с собой. Запрег легонький плужек деревянный и посмирней лошадь, а себе взял железный плуг и лошадь быструю. Приехали подымать зимовую пашню, клеверщина, поднимали дерин. Вот поехали в борозду: отец впереди, а я назади. Еле достаю ручки к плугу: как дерин попадет под плуг, так плуг выскочит из земли, а я в сторону отвалюсь. Пока встану, лошадь далеко отойдет по пустой борозде. Пока я догоню, а отец уже повернется и навстречу едет. Так я была последняя, а то стала первая. Уже отец едет вслед и закрывает все мои агрехи. Но отец меня никогда не ругал и не бил, какую бы я беду не сотворила - он мне только выговор даст и внушение, и всё. Вот и тут. Я напорчу борозду, а он закроет. И то был рад,что я так ему помогаю и приучаюсь работать.
Когда подъезжает пан или приказчик, тогда я очень боялась. Пан не так еще кричал и намирялся плеткой, как приказчик: как замахнет плеткой над моей головой! Но ударить, правда, ни одного раза не ударил, только пугал.
Подошёл обед. Отец отпрег лошадей и пустил на лужок, около лесу. Пообедали. На обед у нас был квас и хлеб, мать мне сварила яйцо. Квасу у нас был большой жбан, чтоб хватило пить и есть. Отец лег отдохнуть, а мне говорит, чтобы я пасла коней. Я согласилась пасти лошадей: лошади щиплют траву, а я занялась караулить птичек. Нашла много гнездышек с яичками, с птенчиками. Лес был очень страшный, темный. Там даже дальше в лесу водились волки, лисицы, вот я боялась вглубь заходить. Но все же зашла в одно болотце, там водились чайки - вот меня приманили своим пищаньем, все пищали, качикали: кичик, кувык. Я подстерегла, где чайка села на небольшой купенки и тут же спряталась. Я подкралась близенько к ней. Чайка, конечно, вылитела из гнездышка. В гнездышке было положено четыре яичка - темнозеленые, черные крапинки на яичках, крупные, мысики острые. У других птичек намного крупней чайкины яички. Обрадовалась, что нашла яички: я стала на коленочки, руки заложила назад и близенько нагнулась к гнездышку, чтобы хорошо рассмотреть, только не трогать руками. Мой отец мне говорил, что брать яички птички нельзя, потому что птичка откинится от своего гнездышка и будет еще трудиться, а птичке будет трудно. Он указал на меня: как трудно тебе пахать, да еще забери у тебя все в доме, каково будет тебе? Вот также и птичку обижать нельзя. Я налюбовалась на чайкины яички, а лошади взашли на панскую землю. Хорошо, что никто не видал, а то мне да мало не было, а пришлось бы отцу отрабатывать. Но все обошлось хорошо, я свое путешествие выполнила и лошадей накормила панской зеленью или ржей. Отец отдохнул, запрягли и поехали после обеда пахать.
Ну, лето проходит, настает осень, надо уже в школу начинать ходить. Вот я пошла со своими подружками - с Таней, с Нюрой, с мальчишками. А Мотю отец не пустил в школу. Сколько она пролила слез, что не пошла в школу. У Моти много братишек и сестрёнка была, но все были поменьше за Мотей, а Моте приходилось помогать матери по хозяйству, и нужно было прясть. Мотин отец жил очень бедно, семья была большая - 10 душ, и все малыши. А земли было у нас только по три десятины. Во всех крестьян земля была вся у помещика. Вот нужда да бедность не допускали до учебы. Так и Мотин отец. Мы пошли учится. Учимся, конечно, не все равны, а поразному. Мне наука шла тоже легко, я учила все на 5-ки. Даже Божий закон учила на пятерку, который и был самый страшный для учеников. Приходили на уроки священник и благочинный.Бывало, тебя всего перетрясет, пока пройдет этот урок божева закона. Но с первого класса еще спрашивали меньше, как со старших классов, и за науку меня учительница Марья Алексеевна любила, не наказывала, не ставила на колени, также в угол, без обеда не оставляла. Все было хорошо.
Вот загорелся сарай на панском дворе, после обеда. Мы только выбежали на перемену и смотрим, что горит. Я возьми, сорганизовала всех учеников, что мы успели сбегать за перемену на пожар. А бежать было с версту. Мы вернемся с пожара, и все будет благополучно - так мы думали. Но так не вышло, нам не прошло. Вернувшись назад, учительница всех по одному переспросила, кто был первый зачинщик или первый побежал на пожар. Многие указали на меня и еще на двух девочек. Нас учительница в угол поставила на колени и гречишки насыпала нам под коленки, чтобы слышно было, на чем стоим за этот поступок. Чтобы помнили подольше, не заслуживали второй раз. Вот такое было нам наказание - это лично было со мной. Слезы сыплются, и зло берет на учительницу, а больше зло берет на тех, кто первый сказал на нас. Все бегали - отвечали только трое. Ну, думаем, хорошо, подладим момент, и мы им всыплем, хотя снежками. Не пришлось в этот раз отомстить, обошлось все мирно, но коленки саднили целую неделю, были все в синих пятнушках от гречихи. Больно было, нельзя приняться за коленки. Особенно когда читали молитву и становились на колени, то нам было хоть плачь, больно становиться на колени класть поклон. Но перетерпели, стало заживать помаленько.
Прошёл месяц, а может и больше. Все же мы с подружкой (подружка была по классу мне) отомстили одному мальчишке.Это был мальчик нашего приходского священника, он учился в третьем классе, всякие кляузы передавал учительнице на всех учеников. И ему была вера, как будто он все говорил правду. Ну, его все ученики не любили, даже ненавидели. Вот я и подружка моя Дуся - мы были назначены дежурные по классу. А этот мальчишка (звали его Женька) имел волю заходить прежде учебы в класс. И ему не говори никто, что он заходит в класс: насорит там по всему классу, а учительница тогда ругает дежурных. Этот Женька, бывало, голову высунет во дверь и дразнится повсячески со всеми учениками. Отомщали ему только на улице, снежками. Но это для его отомщения мало. Ему надо как следует отомстить. Я на подружку Дусю и говорю: давай ему отомстим за все и за всех. Дуся говорит: как отомстим? А вот как - я сказала. - Ты посильней меня. Как он воткнёт голову в дверь, так ты хватай ручку двери и что есть силы держи покрепше, а я буду держать внутри класса его и буду спрашивать с него клятву, чтобы он дал слово, что никому не скажет и больше не будет ни на кого наводить кляузы. Вот так и сделали: я зашла в класс, а подружка стояла начеку и ждала момента. Недолго пришлось ждать. Он как птичка попал к нам в дверь, мы его так зажали крепко. Он сперва ругался, грозил нам, потом стал рваться, что у него есть силы. А мы держим покрепче, еще сильней его зажали. Потом стал плакать. Но, как говорится, что город слезам не верит. А мы все тесним. Потом стал просить и давать честное слово, что никому не скажет про это, как и кто его тискал в дверях. И на остальных учеников не будет наводить кляузы.
Вот выпустили, он как с цепи сорвался и побежал как сумасшедший по классу. А мы, когда душили его, у нас был азарт и удовольствие, что наша берет и наша победа над врагом. Как выпустили его нам стало боязно, даже мороз пробежал по телу. Тут мы вспомнили про наказания с гречихой. Ну, ладно, что будет, так будет, уж не вернешь. Ждем выхода учительницы, а страх берет больше. Вышла учительница преподавать уроки. А мальчишка этот сидел на первой парте к столу, очень был виден учительнице, а у него появился сине-красный круг на шее, на ушах и часть щеки захватило, сколько было захвачено дверью. Учительница стала спрашивать: «Где ты так налетел, и кто тебе так обезобразил?». Он отвечает: сам ударился об дверь. Вот когда нам полегчало, а то весь язык посекли во рту, все ждали себе наказания. Но прошло хорошо. Мальчишку мы этого, видимо, перевоспитали, даже стали друзьями мы с ним.
Так и закончился мой первый год учения.
Еще я очень любила весенний праздник. Он бывает постом Великим, Благовещение - 25 марта. Вот мать напечет пирожков с капустой, с грибами - весну гукать, а мы, девчонки, приготовим места себе возле бани на пеньковом костре (как мнут пеньку, груды большие навалют костры (Костра - жёсткая кора растений, годных для пряжи льна. (Вл.Даль). Другая версия - отходы при отработке льна.) ). Мы с них прыгаем, катаемся и гукаим весну на этих кучах. Раньше был у нас такой обычай, даже взрослые с пирогами ходили, где на бревнах садятся. Но нас, детвору, взрослые не принимали. Но нам было очень удобно: мы расстилаем платок, чей попадет, садимся вокруг на платок, кладем пироги, разламываем пополам, кого изберем разламывать, и начинаем петь песни. Но в песнях запевала я первая: «Благослови, мати, весну загукати, зиму провожати, зиму у возочку, весну у челночку, лето у корети, бог благословит».
Вторая песня: «Вир вир, колодезь, вир вир, глубокий, чево в тебе, колодезь, да воды нетути? Нету поры - так и нету воды. Князь, князь Ваничка - да жены нетути. Heту поры - нету и жены, придёт пора - будет жена».
Третья песня:
«На дороге шерых, шерых, на улице гомон, гомон, братец сестру стратить хочет. Ни трать меня, брат, в буден день, а страть меня, брат, в воскресенье. Положь меня, брат, посередь дороги. Девочки идут - веночки вьют, меня девку вспоминут». Четвертая песня: «Возле лесу, лесу темного лежит тело, тело белое, тело белое молодецкое. Никто к тому теличку не подступится. Подступились да три ласточки: первая села в буйной голове, вторая села против сердечка, третья села в белых ногах. Что в буйной голове — это мать его, что против сердечка - то сестрица его, что в белых ногах — то жена его. Где мать плакала - там река течет, где сестра плакала там колодезь стоит, где жена плакала - там роса стоит: солнце выблеснет —роса высохнет». Мы сидим почти до самого вечера, поем так, что все в книгу не напишешь. Но еще споем: «Четыре месика над нашим селом, над Деденками, стояли. Светили месика четыре: первый месячек - молодой Ванюшка, второй месячек - молодой Васичка, третий месячек - молодой Гришичка, четвертый месячек - молодой Мишечка». На поле так же и девушкам поется. Последняя песня: «Петушек, кукареку, петушек, кукареку. Завалился дубок через реку. Вот таматька переход переходит, Ванюшенька Манюшеньку переводит. Ты стой, моя Манюшенъка, не шатайся, за правую рученьку ты хватайся».
Вот пропели Петушка и все врассыпную по домам. Но еще крошки все поедим, которые оставались на платке. Забежим к взрослым: они еще сидят на бревных и поют песни, тоже гукают весну.
Дождались лета. Тут начались такие же хозяйственные работы, как были раньше, только я себя чувствовала посильней других быть организатором. За мной ребятишки бегали толпой. Хотя я была даже помоложе некоторых, а брала большинство я. В деревне у нас было много садов, почти в каждом доме был маленький садик, яблонь 7 или 5, на большую силу десять. У моего отца был тоже садик, 8 яблонь, три куста смородины чёрной, один куст красной смородины, пять кустов крыжовника, и две маленьких грядки клубники, и две колоды пчел. Яблони были все хорошие сорта: Сахарная, Аркад, Каранавочка, Баровинка, Белый налив, Коричневка, Апорт, Антоновка просто наливалась медом, когда хорошо созреет. Мой отец не любил, чтобы мы лазили по чужим огородам или садам: он любил все свое иметь. А трудов он не жалел трудиться. И брал меня все в сад помогать ему на садовой работе: вот пчел подчищать, клубнику полоть, смородину обгородить, упарочки к яблоням поднес - это я ему во всем деле помогала. Налазить пчел я не боялась, и у меня не пухло тела от пчел, а только белый волдырёк вскочит, где укусит пчела.
Вот один раз был такой случай: отец собирался лазить пчел, все приготовил - начёвки, ножик, думар и простую головешку, сита, которое одевают на лицо. Только ждал меня, а я почему-то забавилась в избе. Садик наш был около самой дороги на улице, с улицы все в нем видно как на ладони. Вот я бегу в садик, и рядом идет старуха за водой по улице. Она такая была переговорка, все переговорит, где чего увидит. И на нее все старые люди жаловались, что у нее плохой глаз, она многих сглазила. Вот и на меня говорит: что бежишь, как птичка летишь, а вон отец ходит по саду, небось, пчел будет подрезать и все. Она пошла своей дорогой, а я подбежала к отцу, одела сито себе на лицо, отцу рукава завязала. Отец мне завязал рукава, чтобы пчелы не залезли в рукав. Открыл отец улей, не успел первый сот отрезать меду, как все пчелы вылетели прямо роем на меня, что никогда до этого не случалось. Бывало, дымком подкурим, думарем, сдунем где пчелки мешают, чтобы их не затопить в меду, полазеют по рукам и не кусают. А то как сели на меня кучей и режут, и кусают. Я билась, билась, дымом никак не отгоню. Я села на землю, они все мне сели на голову и на спину. Мне мочи нет терпеть, я встала и побежала что есть силы к себе на гумно, и прямо в падвал вскочила. А там было темно. Вот маленько отстали от меня пчелы. А по телу у меня слышу расходится ихний яд. У меня тело сделалось грубое, как дубовое, а опухоли нет. И на сердце стало лихо, лихо: я не могу уже встать, завалилась и лежу. Вдруг за мной прибежали три сестрёнки, отец. Сестрёнки были две постарше меня, одна помладше. Меня взяли, вытащили с авина и принесли меня домой. Стали растирать меня стальным бруском холодным. А мне все делается хуже и хуже, еле дождалась утра, все думали, что я умру. Нет, не умерла, стало легче и все прошло. А пчелы так и остались не подрезанные до второго раза. И я уже разбиралась, где трутень, где матка, где рабочая пчелка - я все это знала.
Вот у меня были три сестрёнки, но те никуда не лазили, по чужим огородам. А я какая-то была выродок-лазейка, мне страсть как хотелось сорвать что-либо в чужом огороде или в саду. Через пять домов от нашего дома жил старик, звали его Тихон безбородый. У него были счетом две яблони: одна - Лисовушка, вторая - Мидуничка. Очень мелкие яблочки на них росли, но вкусные, кисло-сладенькие и споркие: когда насыплешь в карман или за пазуху, можно многих угостить своих товарищей, для угощения они были выгодны. Вот мы собирались впятером. Я была первая: влезли все на яблоньку, на Медуничку. Я выше всех, на самую макушку. Нащипали полные запазухи и стали слезать. Четверо слезли и убежали, а меня так и застал дед Тихон - яблоки не отобрал, а взял меня за руку и привел меня к отцу. Отец как раз был дома. Я, конечно, боялась отца, но меньше боялась, как учительницы. Дед Тихон начал говорить моему отцу выговор: Иван Кузьмич, как тебе не стыдно пускать девчонку по огородам, у вас получше яблоки, а за моими палявкими лазит. Тут я стояла, как перед уголовным судом, так перед ними. Правда, отец меня отодрал крепко за ухо, погрозился пальцем, и приказал больше не лазить никогда по чужим огородам. Я дала честное слово, что не буду лазить, а с дедом Тихоном мой отец расплатился: в два раза больше отдал своих яблоков, крупных и сладких. Но сестра Дуня на меня так напала, как полагается: столько мне наложила кулачиков в горб, в бока, сколько можно понести, не больше.
Как прошла неделя - меня обратно поймали в меду. Дуня, сестрёнка, таки следила за мной. Мама поставила мед в лазадке в чулане, накрыла тарелочкой. У нас замыкать привычки не было, везде было без замка. Я залезла и давай ковырять двумя пальцами, прямо в рот к себе. И получалось у меня лучше, как ложкой. Дуня побежала, сказала матери и батьке: вот кто у нас мед ковыряет, посмотрите, всё Грушка делает. А мать говорит: что кто ковыряет? Но отец не увязывался в это дело, а мать поругала и все. А мне, поверьте, так хотелось что-либо да какие проказни сделать.
После Успения в большой мясоед была свадьба в соседней деревне. Все старые и малые ушли на свадьбу, а я вышла тоже из хаты, зашла к подружке Моти. Мотя тоже была одна дома. Отец и мать ушли на свадьбу, а Моти оставили маленького братишку качать в люльке. А без Моти я тоже не пошла на свадьбу: стали обдумывать, куда пробраться в огород или в сад. Малыша закачали и пошли в огород к Мотиному соседу. Нарвали бобов, гороху, забрали маку: головки большие были в маку, просто по кулаку. Снесли к Моте, еще залезли к деду Егору в сад. У деда Егора была молоденькая яблоночка: он все хвалился, что на яблоньке фунтовые яблоки растут. Вот мы до нее и добрались, сорвали все, сколько было на яблоньке. Яблок правда - крупных, красных, как краской вымазанных - было 20 яблок. Все сорвали и принесли также к Моте: весь доход домой мне нельзя было носить, я боялась сестрёнки Дуни и дала честное слово отцу, что не буду лазить по чужим огородам. Вот бобы поели, горох тоже съели, мак сперва вытрясли в чашку, сделали смаковочки, ложечку и давай делить прямо в рот: ложку мне, ложку Моте. Пока люди пришли со свадьбы, мы уже все поделили и все следы скрыли. Это нам удалось сделать безответно. А яблоки спрятали в солому на гумне у Моти. Ходили на гумно, чтобы никто не заметил, и брали по одному яблоку на гумне, не выходя их съедим; так все прошло спокойно.
Пришла осень, нужно итти в школу. Меня мать посылает, а отец не желает, чтобы я шла в школу, говорит: «Девочке все равно не в пользу школа, надо прясть, по хозяйству матери помогать и отцу». Как у нас не было братьев, то заменяли мы, девчонки, всю мужицкую работу и женскую. Но все же я походила на второй год в школу 2 месяца. И снял меня отец с ученья. Ему горько было - надо возить дрова из лесу, к каменьщику, к заводу ( у нашего помещика был винокуренный завод в имении - Крапивна, Монастыршинский район, смоленская область). На этот завод не справлялись мужики подвозить дрова, возили от третьего воза - один воз себе, два воза пану. Возят всю зиму дрова, а в марте спирт отвозят на станцию Пачинок или Смоленск. Бочки на сорок ведер: у кого ношадь крепкая, на одной везет, а у кого плохая - на двух лошадях везут. Когда пришёл мой отец снимать меня с ученья, я испугалась и спряталась за учительницу. Думала, найду спасенье, но не нашла. Как отговаривала учительница отца: «Иван Кузьмич, прошу тебя: лучше наймите какого старика, а девчонку не снимай с учебы, не губите ее, дайте ей дорогу. Девчонка очень способная для учения». Даже учительница заплакала, а я - как река льюся слезами. Но ничего не помогли наши слезы. Панская власть и работа переборола мою учебу. Я проклинала: будь она проклята трижды навсегда эта крепостная власть помещиков!
Поехала возить дрова: отец едет впереди, я позади еду. Выехали из лесу, подъезжаем к заводу, вот я думаю: это - мой злодей. У меня закралась такая мысль проклятия, чтобы он провалился этот завод на скрозь землю, чтобы он сгорел. В мыслях думаю: как бы я хорошо и радостно смотрела на этот завод, если б он начал гореть. Думаю, что я бы помогла тому человеку, кто его поджёг бы, чтоб его совсем разрушить - вот мне так хотелось отомстить этому заводу. За свою учебу я всю вину положила на завод и на отца: если б не было завода, не нужно дрова возить, я училась бы. Это я все так передумала.
Прошла зима, кончилась возка дров, начинаются весенние и летние тяжёлые работы. Я была очень послушна на всякие работы: уж выучилась пахать, бароновать, возы топтать, училась косить и жать. Как бы я не устала, как бы я не замучилась, а песня меня не покидала, я все пела эту песню:
«Горушка крутая, долюшка моя худая»; я сравниваю себя с худой долею, что я не учусь, «никто горюшку не сробит, никто горю не поможет, смоет горюшку водица, поможет горюшку сестрица». Я думала: как может помогать горюшку сестрица? Наоборот, меня только сестрица Дуня бьет, и пела дальше: «Сестрица моя, родная моя, долюшка худая. Отдали замуж далеко, все за пьяницу, за вора. Пьет пьяница всю неделю, а я горюшка горюю. Пьет пьяница и другую, а я - горюшка горького». Но пока я еще была подросток, я не понимала, что это есть судьба. И я не понимала, что это есть горе. Меня только не покидала мысль, как бы избавиться от помещика и от его работы. Я только питала зло и мщение ко всему панскому имуществу. Но я была бессильна, ничего не могла сделать на этот вопрос. Вот я пела песню «Долю бедняка»: «А ты, доля, моя доля, доля бедняка, тяжела ты, без отрады, тяжела, горька. Не твоя ли, бедняк, жинка ходит босиком. Не твои ли, бедняк, дети просят под окном? Не твою ли, бедняк, хату ветер пошатнул, с крыши ветхую солому не раздул, размел?» В этой песне я задумывалась, как, правда, тяжела жизнь бедняка: когда он женится и не может прокормить своих детей и жену обуть. Почему-то мне это было самое страшное впечатление, хотя я сама все время у отца ходила босиком, ботинки не понимали носить. Хотя и были ботинки одне на всех в семье, одевали только, кто пойдёт в церковь. Дорогой идет босиком, а когда подойдет к церкви, тогда садится, об тряпку или траву вытрет ноги и одете ботинки. Только постоять в церкви в ботинках - домой идет тоже босиком, а ботинки несет в узелке. Так на семью насколько хватит ботинок? Конечно, на весь век.
С весеннего Николы, девятого мая по старому стилю, я начинала водить на ночлег коней. Перед Николой, бывало, мужики, подростки и старики ведут коней на ночлег: берут с собой сало, яички, водку, хлеб, сковороду и делают всю ночь маевку. Это начиналась первая ночь ночлега. А потом, до глубокой осени, водят на ночлег, ночуют в лесу. Когда хорошие ночи, теплые, лунные, тогда хорошо, не страшно: раскинешься как на мягкой постели, так на куринки. А когда дождь, гроза, тогда так и не отходим от стариков. Крайнему никому не хотелось ложиться, то ложились в кружок, головы были вместе, а ноги - врозь. Только тогда не было крайнего и не было страшно - вот так нас спасал дед Егор и дед Захар. А еще часто бывал переполох - волки, не давая покоя, резали маленьких жеребяток. Сторож дает нам тревогу, чтобы помог отогнать волков. Волков у нас было очень много. Днем мы их не боялись, и они днем меньше ходят, а больше спят. А ночью им самая взятка, особенно под утро. Ночью палим большие костры и набираем головешек, и вдогонку за волками бросаем головешки. И до самого утра приходится так воевать с хищниками. А как выгоняют пастухи скотину напаранки (Напаранки - рано утром.), тогда волки от нас убегают - в стаде там скорей подхватит овечку или поросёнка. И так часто приходилось встречать такие ночи. Почти все были на ночлеге мальчики, старики, только я была одна девчёнка, и каждую ночь наподряд водила на ночлег и сторожила сама. Только с кем-либо вдвоем, одной мне не справиться с лошадьми. Отец у нас не выходил и с работы, все на панском дворе плотничал, даже выходного дня не давал ему пан. Поэтому меня некому было подменить: постарше сестры не хотели ночевать, а младшая сестрёнка мала была, ее все жалели, она была очень смирненькая, никакой беды не делала. А я замещала везде, и мне было всюду хорошо и весело. Когда станет страшно, я тогда начинала петь песни: «Ты мальчишка молоденькой, полушубочек коротенький. Отчего ты не женишься, на кого ты надеешься? Я надеюсь на денюшки, а женюсь я на девушке». А у нас был мальчик, он постарше меня на два года. Он носил все такой коротенький полушубочек, его и звали «Полушубочек» или «Блин»: фамилия была Блинов.
Старики и взрослые все любили меня за песни и за мою ухватку. Дед Захар и дед Егор часто брали меня на подначку: дед Егор говорит, что не выполнит, а дед Захар говорит, что выполнит нашу задачу. Вот они заложутся по пяти копеек за нас, кто из нас выиграет, а кто проиграет: наперегонки ехать на конях, коней поить в пруде. На две партии нас разделят, садимся на коня и галопом, что есть сил, едем: кто вперед туда и оттуда приедет к дедам. А они смотрят, смеются над нами в покат. У меня была лошадка маленькая, звали ее Канарейка. Масть была карей, ножки тоненькие, на нее было садиться хорошо: враз прыг - и на Канарейке. Только поводом жиманешь - он как птица растянется, еще станет ниже и в галоп так летит, его никто не догонит. Очень бегала шибко. Еще был у одного парнишки рысачек, он вторым приезжал. А я всегда первой и всегда мой пятачок был выигран. А у моего двоюродного братишки - звали его Алексей - была лошадь большая, бурая кобылица, звали ее Ардынка. Он всегда перед всеми хвалился, что лучше нет в деревне его кобылицы. А бегать она не могла. Стоит вся мокрая Ардынка, когда он едет на ней бегом. Он уже смаргает, смаргает ее и бьет плеткой, а она возьмет, да шагом пойдет, а его зло берет, что мы уже все приехали и коней попутали, а он еще едет на своей Ардынке хорошей. Пока спутает, он подходит к нам, а его уже навсячески разыгрывают - все мы и деды. Он сделается весь бледный от зла, глаза выкатит белые и кидается драться ко всем, но больше всех ко мне: зачем я выигрывала пяточки от деда Захара. Еще мне давал яблоки за песни: он очень любил слушать мой голос, когда я пою. Алексея дед Захар часто ругал из-за меня: ты что, говорит, вылупил глаза на нее, как котавы яики. Ана же не при чем, у ней маленький конек Канарейка ее выигрывает. А у тебя зато большая кобылица. Вот как взялись его дразнить «Лупа - котавы яики», ему спасу нигде не было. Тогда перестал драться. После этой драки я села на пенек и запела: «Ваничка , Ваничка, я с тобой не парочка. Ты велик - я маленька, ты мужик - я барынька». А вторую запела: «Темна ночка да не видная, негде младешеньки ночку ночевати. Пущу коня на долинушку, а сам лягу на дрелинушку. Откуда бывше красная дсвчёнка, будит меня, парня молодого: проснись, парень, парень, парень, паренечек. Возьмут твоего коня вороного, убьют тебя, парня молодого. Верно меня, девченочка, любишь, что ты меня ранешенько будишь». На ночлеге часто пела разом соловьем. Пела: «Ясный месяц плывет над рекою и скрывает в ночной тишине», потом «Зарю»: «Ты заря, моя заря, зоринька. Высоко заря ли, высоко заря занимается. То куда мой милый собирается? Аль в ход или в поход, аль в дороженьку. Собираюся я к царю белому - служить службу верную».
Потом еще начала петь «Полушубочек коротенький». Этому мальчишке эта песня к лицу шла. И вот целый день как пчела гудела песни всякие.
Вот когда началась жатва. В самую жатву я ходила жать с матерью и сестрой Дуней на панские поля. Рожь была очень густая, большая, никак не вытянешь солому, не взмахнёшь горсть. Как мать и сестра взмахивали горсти, у меня так не получалось. Я отрежу несколько соломин, а потом кладу серп на плечо. Отступаю от пустати (Пустать, постать - поле, пашня,нива, обработанные поля(Вл. Даль)) и тяну эту горсть. Напутаю второю горсть - мне самой нельзя подойти к этому месту. Я захожу во второе место, в свежие, и там так наделаю. Но мою путаницу выжинала мать. А сестра Дуня только ругала - не столько помогаю, сколько мешаю. А жара, солнце жжёт - мочи нет, пот заливает всё лицо, в глаза попадает. Глаза содниют от пота, поясница болит, как будто кто в ней шевелится, голова тоже болит. Лягу на снопы, посмотрю, какая густая рожь: на петку и снопы толстые - не подымешь одного снопа. Жать трудно, а снопы носить еще труднее было. Мать только по два снопа подымала, а я волочком волоку - и по сторонам оглянусь, не едет ли управляющий - тогда даст нагоняй, а то и плеткой потресёт над головой. А я плетки очень боялась. Замучилась совсем, не могу таскать снопы. Сажусь на снопы и пою песню:
«А все люди двору идут, а я молода горюша. А я млада горюша - итти двора боюся, я своего нелюбого проклятого свекра». На песни я была мастерица: где бы какую не услыхала, она будет тут же моя. А мать и сестрёнка все подгоняют меня скорее носить снопы: «Один, два принесёшь - все нам легче будет, а то ночь захватит». И не раз захватывала ночь, что снопы приходилось носить впотьмах. А мне еще нужно на ночлег коней вести. Все снопы поставили, мать побежала что есть мочи домой -убираться со скотиной, а мы осталь ожидать соседей. Вечером поздно стало прохладно: пахнет с поля жнивом, стрекочит перепёлка и драч, а я им подпеваю перепёлкой: «Вот ведет, вот ведет, пуньки нет, негде жить» (Пунька - сарай). Потом запела:
«Закатилося жаркое солнце за темненький лес. А чтоб нашему пригонятому язычек облез. А уже наши белы ноженьки пристоялися, а уже наши белы рученьки приломалися». Дождались большую толпу соседей, идем: кто доедает обеднишний хлеба кусок, кто стонет - руки болят, у кого поясница болит. А у меня все болезни дневные прошли, мне легко, хорошо стало. Я бегу, подпригиваю. Вспомнила деда Захара, рассказ, что он нам рассказывал про перепелку и драча. Говорю: рассказать вам деда Захара рассказ? Некоторые говорят: «Расскажи». А Дуня наша меня осекает, говорит: «Вольному воля, а шёльному поля, так и тебе: что нечего да трепать языком. Ты не можешь молча пройти, как днем, то совсем омелела, а теперь отжилась в холодок!» Но я Дуню не послушалась, начала рассказывать про перепелку и драча. Вот драч обманул перепелку, драч обещал перепелке привести корову и не привел. А перепелка все ждала: «Вот идет, вот ведет, пуньки нет, не идет». У ней не было пуньки, а драч и не думал вести перепелке корову. Бабы все засмеялись около меня, сказали: «Вот шишек, а не девка». А еще рассказал дед Захар про птицу: как кожух пел. Весной поют: «Скидывай кожух, надевай балахон». А асин поет: «Скидывай балахон, одевай кожух». А ласточка пела: «Мужики в поля, а бабы за яишенку». Иволга пела: «Полечу в ригу, там буду жить». Жаворонок пел - уверх летит: «К богу полечу!», вниз спускается: «Кий уронил». Соловей поет: «Сидар сала пек, пек - глыть». А витвитен пел: «Сижу на дереве, вижу, вижу». Мы спрашиваем: «А кого он видит?» Дед Захар ответил: «Чтобы гнездушки не разоряли». Вот я эти рассказы все запомнила, пришла домой, повечерила и повела коней на ночлег. Уже было совсем темно, мне было страшно, как встретят меня волки. А от страха я запела песню: «Кто не верит моему горю, тот проклятый человек. А кто поверит моему горю, тот потужит обо мне. Тот потужит, погорюет об несчастной сироте. А высоко сокол летает, выше, выше очей. Далеко милой въезжает - в дальний город Петербург. Я своего дружка просила хоть немножко обождать. Нельзя году ожидати, нельзя часу часовать. Я тогда тебя забуду, как закроются глаза. Как закроют мои глаза белым чистым полотном. Как засыплют мои глаза сырым желтеньким песком. Зарастет моя могила вся травой да муравой».
Тут я подъезжала уже к лесу, начала аукаться. На мой голос многие голоса откликнулись, у меня уже весь страх прошёл. У ночлежников горел большой костер, ребята курили и старики. Я спутала коней, подхожу к костру. Все весёлые, жизнерадостные, как будто я им привезла всю радость. Я подошла поближе, сбросила свой знис тяжелый и сама стала закуривать. А куриво у нас было приспособлено. Трубка была сделана из ольхи. Отрежим палочку олшишка толстого, положим в жар, она распарится. Зарежим зарезочку, сколько надо на трубочку. Когда она распарится, повернем туда, откуда она легко выкручится. Потом почистим поглубже, чтоб побольше листа влезло. Так же и чубук выкручивали. И получалась великолепная трубочка. Вот и я вынула трубку из кармана, отломила ольховую ветку с листом и начала сушить над костром. Высушила, положила в трубку. Туда положила уголёк и потянула дым к себе. Дыму было очень много, выпускали дым изо рта горький, язык щиплет. От этого удовольствия сплюнешь раза два и берешься выкатывать из костра картошку печёную. Закусим этот дым, который напоганил во рту. А от товарищей нельзя было отставать, хотя и не мое дело.
Когда пришла зима, часто я закладывалась с дедом Захаром на пять копеек, кто кого вперед обгонит, когда шли в сарай за сеном коням. У нас были рядом сараи и рядом избы; несмотря на то, что дед Захар был хромой, но бегал быстро, даже меня несколько раз обгонял. Мне жалко было проигрывать пять копеек, но приходилось отдавать: у матери просить с трудом эти пять копеек. А дед Захар смеется и радуется: ему смешно, а мне неприятно, что дедово брало. Дед Захар был кум моему отцу и матери. Жили они в соседстве дружно. У деда Захара был побольше сад нашего и пчел было 6 колод.
Дед Захар умер. Дружить и бегать на выгонки мне стало не с кем. Я уже стала подрастать, но разуму еще было мало, больше было шалостей и баловства. Стала кататься с горки на саночках на маразянки. Горка была у самого нашего двора, все было видно и слышно из окна. Как же тут усидишь дома? Выбегаешь в чем попало, зипун или шубенка, что попадет - схватишь, на голову накинешь на ходу, наденешь. А то на горке оденешь, и тут смешаешься в толпе, друг друга подталкиваешь кто плачет, кому губу рассекли, кому ногу ушибли, кому рукав у шубы оторвали, или в зипуне полу оторвали. Очень крутили на маразянках (Морозянки - особые ледяные приспособления для катания с гор: в таз наливали воду, замораживали, а потом, подогрев таз на огне, вынимали готовую "морозянку"). За ногу как вертенёт, кто посильней, так едем вниз, и все вертится как винтом. А если выпадешь с маразянки, тут на тебя налетят десятки ребятишек. А горка полита водой, лед чистый, гладкий. Вот где одежёнка - только держись. Я домой приходила всегда - или рукав оторван, или пола оторвана. Но я старалась домой притти попозже, чтобы никто не заметил. А завтра сама пришью на ненадолго - обратно оторвётся. На горке я пела маслинские песни: «Но проходят развеселые наши деньки, наступают слезовые для нас времена. Слышу и раздосаду дома не скажу. Я ни батюшке, ни матушке своей родной. А скажу, скажу подружке своей, своей потайной: ты подружечка- сестрица, жизнь-радость моя! Со всего света напасти пали на меня, рассердился друг Ванюша-дружок на меня. Он и ходит по широкому своему двору. Укладаёт белые руки, рученьки в карман. Вынимает из кармана золотые ключи. Отмыкает, отворяет новую конюшню. Он братаит, он седлает ворона коня. Он садится на вороного своего коня. Он съезжает со широкого своего двора: «Прощай, Саша, прощай душа, жизнь-радость моя! Когда будешь, друг, жениться, вспомни про меня. А не будешь, друг, жениться, забудь про меня».
Вторую: «Занемог мой миленький, занемог, не говорит. Разволновались: Что болит? Заболела у милого голова. Как пойду я в болота балуну, прикладу я милому голову...»
Мы много пели маслинских песен, но все я описывать не буду.
На третий год как я убегала с панского двора, я уже умела запрягать лошадь и выпрягать, отворачивать во все стороны могла вожжами. Поехали также толакой возить навоз все деревни. Некуда даже повернуться, до руганья ругаются погонщики, чтобы не остаться последним. А последнего всегда звали «телепай»: «А телепа-телепень, неси гавны за плетень», -тогда все будут дразнить. Этого я очень не хотела заслуживать прозвище. Я всегда почти была не самая передняя, а вторая от переднего. Первому было хуже, потому что лошадь первого надо правильно править, а то заедет куда с дороги. А второму было хорошо: моя лошадь шла вслед, мне было легко. На обед отпрягали все наложенные воза навоза, отпрягали лошадей, каждая деревня по-отдельности. Так и люди обедали по-отдельности. Потом старейшие ложатся отдыхать, молодые вместе приходят - разговаривают, кому охота - борются, возятся. А мы всё детвора сидим, в озере купаемся, покамест скомандует управляющий запрягать. Тогда летишь из озера как пуля, чтобы не опоздать: а то останется телепай, если не успеешь запречь лошадь. А Дуня, сестрёнка, и ее подружка Аниска затеяли возню с одним парнем с чужой деревни, им хотелось его взборить, а он не поддавался им и повалил их обеих на траву, да и тискает, лежит поперёк их, как бревно, и больше тискает к земле. А мне самая горячая работа - надо побыстрей запречь лошадь, чтобы, не остаться «телепай». Хомут я одела - лошадка была низенькая, та самая Канарейка, на которой всех обгоняла, а супоню я не могла стиснуть в хомуте: очень была тугая. Я раз крикнула: «Дуня, иди помоги!», второй раз крикнула - тоже не слышет, они никак не справятся с этим парнем. Меня взяло зло, я схватила ременную плётку, которой погоняла свою лошадь, подбежала к ним, да как ему три раза по спине стеганула плёткой - и сама что есть у меня силы побежала к лошади. Тут подбежала, затиснула супонь, и у меня все было в порядке: вожжи были уже завожжаны, чересседельник был подвязан. А парень тот вскочил, как мячик, кверху - и не знает, куда ему бежать: ему было больно, а плакать совестно, и не знает, кто его так стеганул до большого синяка. Но немного прошло, он узнал, что я его стегану так крепко. Грозил меня побить, но ему не удалось мне отомстить: одна я нигде не оставалась, а с товарищами он не отважился ко мне подойти, у меня были дружные товарищи. Так износил три плётки от меня и больше никогда не приходил к нашим девчатам бороться, а смеялась над ним долго вся деревня дворьня, указывали на меня: «Эй, Ванька, вон твоя крестная, как она тебя ловко окрестила» - а смеются просто до упаду над ним и надо мной. Он только искоса посмотрит на меня, что-то ругательное вполголоса шепчет. Я все ждала от него подарка, поэтому не расставалась с своей плёткой, она мне была как оружие в руках: а ну, он бросится на меня, та пильну ему прямо по морде, чтобы не видел, куда я убегу. Меня многие звали «Ухарь купец» за мою бойкость, и я, возимши навоз, пела эту песню. Еду на грязной телеге, с телеги течет навозная жижа, я распеваю: «Ехал с ярмарки ухарь купец, ухарь купец, удалой молодец. Заехал в деревню коней напоить, своей гульбою народ удивить. Всех старых и малых он поит вином: пей, пропивай, пропьём, наживём! В одной же избушке светится ночник, спит под лавкой старик. В красной рубашке, и синих штанах, вышел на улицу весел и пьян. К стыдливой девчёнке купец пристаёт - целует, милует, за ручку берет. Девчёнки же мать растаранна была, с такими словами к купцу подошла: «Стой купец, стой купец, стой, не балуй, дочку мою не позорь, не целуй». Вторую пела «Варяга». Третью пела «Трансваль, Трансвалъ, страна моя, горишь ты вся в огне. Под деревцем развесистом задумчив бар сидел: «Что задумался детина, о чем горюешь седина?» - «Горюю по родине, и жаль мне край родной».
А мстительные мысли у меня так и заложились в голове. Все когда я проезжаю мимо завода этого, я его считаю как своего злодея, что через дрова меня снял отец с ученья. Мне так думалось - не было бы завода, то я училась бы в школе. Вот я все подслушивала, как, бывало, старики говорят, про живое серебро или иртуть, что иртуть может просверлить любую плотину, если бросишь там, где она запружуна. Тут я этот разговор запомнила и взялась обдумывать, как это дело выполнить. Никому не сказать, только одной делать это дело - и всему крышка. Было время, что я не хотела ехать на панский двор, убегала. А теперь пришло время и настроение: с радостью ехала на панский двор работать и отомстить заводу. Возле завода было озеро десятин пять в обширности. Плотина была запружена высоко - полтора саженя. По другую сторону ниже плотины стояла мельница панская. Напротив у мельницы закрывались четыре заставни: когда мелю, две заставни открывались, а когда большой напор воды, тогда все четыре открывались. К плотине был большой напор воды. Вот я в обеденный перерыв забегала на плотину и рассматривала, где лучше бросить иртуть, где тоньше плотина. Товарищи спрашивают: «Зачем бегала на плотину?» Я отвечу, что смотрела - там часто были поставлены пастановни на рыбу. Я рассмотрела, где можно бросить иртуть. Теперь только одно - как утащить у матери вот эту иртуть. А у матери была в пузырьке грам сто, а может больше. Я взяла его осторожно, покрепше заткнула пробочку, что бы не выбежела, а то она правда как живая бегает по пузырьку. Назавтра в обеденный отдых все также выпрягли лошадей. Кто купаться, кто возятся, а я пошла на преступление. Бежим втроем с товарищами - те бегут запросто, а у меня всю душу перетресает. Вида не оказываю против товарищей, а в руке был приготовлен пузырек, а тот кнут... пальцем заткнула. Товарищи побежали вперед, а я иду позади. Поравнялась с последнею заставнею, там была немножко отмыта водой плотина: я туда и высапала и пузырек опустила. Немножечко отстала - и тут же живо нагнала товарищей. Мне как-то полегчало на душе на эту минуту. Но все равно страх сшибал до безумия внутри: а ну узнают - отца и мать сошлют в Сибирь через меня. Я себя так не жалела, как жалела отца и мать. Назавтра мы не поехали возить навоз - наша деревня. А соседние возили, но не навоз, а землю на плотину, запруживали промоину и набрали очень много рыбы: в озере много было рыбы, пан никому не давал ловить рыбу, ловили украдкой ночью. Но это были смельчаки ребята, а то не всяк пойдёт. Наши деревенские услыхали, что промыло озеро, молодые мужики, ребята, в том числе мой отец, взяли мешки, сумки, сетки и пошли за рыбой вечерком. Я в душе радуюсь, даже пять раз перекрестилась. Мне стало легко на душе, но не совсем легко: покамест найдут виновника. К утру отец пришёл весь мокрый, грязный, но рыбы принёс с пуд. Отец очень любил ловить рыбу и стал рассказывать, что озеро все сбежало досуха, только течет ручей, что несколько речушек впадало в озеро. А заставня все свернула и угнала в большую реку Вехру. Колеса водяные тоже свернула, а промоина большая возле заставни. Вот я себе думаю: хорошо так как раз, где я высыпала иртуть. Вот где была радость в моей душе и сердце я чуть ли в себе сдержала - мне хотелось смеяться, даже прыгать с радости. Если бы кто внимательно посмотрел на меня, то сразу бы узнал и заметил мою радость на моем лице. Отец еще все рассказывал, даже ахал: «Ах, как здорово промыла, теперь не скоро они эту дыру запрудят, - говорит. — Если хочешь, что заводу не наберут воды, завод станет». Я думаю: слава богу, что завод станет. Но, конечно, завод не встал. А говорит отец, что двух поймали: ловили рыбу ночью, их и заподозрили, из деревни слободы Якова и Гаврика, молодые ребята. Пожалуй, им придётся ответить или отработать. Так и сбылось: становой пристав присудил им отработать (они были плотники), сделать телятник и баню задаром, и на харчи ничего пан не давал. Мой отец вместе с этими ребятами плотничал, а я носила своему отцу обедать. Почти каждый день они вместе обедали и разговаривали, что они напрасно отвечают за кого-то. Мне этот разговор жалко было слушать в присутствии их, но я не могла ничем им помочь.
Когда нашу деревню назначили возить землю, я тоже поехала с сестрой Дуней. Ехавши, я много думала. Мысли бурей проносились в голове. Когда подъехала к этому месту, я увидела этот водяной погром: заставни не было, колесо водяное было скривлено. Как еще мельница удержалась, что ее не опрокинуло? Вода с ручья журчит в эту глубокую промоину. Сколько ж было торжества в моей юной душе! Я не могла не описать и некому высказать, что сделала я одна такой вред панскому озеру. В мыслях держала, чтобы еще достать такой иртути. А места я теперь узнала. Но сколько не засыпали эту дырку землей, ее все промывало. Возимше землю, я пела песню: «В некрута взяли Ваньку. Взяли, рученьки связали. Взяли, посадили, кудерьки обрили. На кого мы, братцы, тяжко работаем? Аль на вора-плута, аль на душегуба?». Еще пела: «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья. Заплачут мать и мои еестры, заплачут брат и мой отец. Еще заплачет дорогая, с которой три года гулял. Вести к венцу ее сбирался, любить до гроба обещал». Я из-за песен носила много прозвищ - и ухарем купцом. Но я не серчала на прозвища, относилась равнодушно. А мать мне пророчила, что я буду несчастная в своей судьбе: что день, вечер, утро - я все пою. Но о судьбе я тогда еще не понимала, что это за судьба. Мне было от роду четырнадцать лет, я была рослая, высокая, тоненькая. По росту мне давали больше лет, в подёнщину я ходила картошку подбирать к пану, мне платили так, как взрослой. Пан платил подросткам по росту - маленького роста - платит 15 копеек, выше ростом - платит 20 копеек. Вот мои подружки всегда со мной ругались за мой рост. Пока и картошку кончим подбирать, на подёнщине зарабатывали за месяц 5 руб., 7 руб. И считали - большие деньги: мать зато купит ситцу на сарафан. По 10 копеек был аршин ситцу. И за 15 копеек платок подвязной голову повязывать. А остальные деньги в хозяйство шли. Сарафан одевали только по праздникам, а буден день носили все самотканое - юбка, кофта, фартук. На ногах лапти, белые портянки и шерстяные черные, оборы - длинные такие тесёмочки. Их тоже ткали сами скрозь маленькие досточки: в досточке четыре дырочки и четыре досточки, в эти дырочки втягивали нитки и ткали такую тесёмочку, называли их оборы. Буден день обматывали ноги веревочками из пеньки, а в праздник обували лапти с черными оборами.
Часть 2
Уже к 14-ти годам я умела хорошо косить, с отцом косила в плече. Отец очень был доволен, что он не один косит, а вдвоем со мною, поскольку у нас не было мальчиков. Старшие сестры почему-то не умели косить. Тут отец был доволен, что наша полоска не отставала от соседей, несмотря на то, что все соседи были ребята-подростки. На второе лето, когда я выучилась косить, я пошла косить в мирщину. Мирщиной называлось, когда вся деревня косит на паньщине. Мужики все вместе, и меня отец посылал вместе с ними косить, приручил меня к моему двоюродному брату Демьяну. Он был хороший косец, умел хорошо насаживать косы и отбивать, и точить. А я точить не умела еще свою косу. «Демьян Васильевич, - мужики говорят, - веди перед». Он всегда вел перед, второй шла я, вслед за мной шли 35, подростки. Мужики занимали сразу полдесятины, а может и больше вширь тянулись: как гуси летят на юг. Конечно, мне не сказать что было легко, мне было даже тяжело. Но ухватка и бодрость не покидали силы. Как остановится Демьян косы точить себе и мне, так я двадцать потов вытру рукавом своей кофточки.
Только выругалась я, что больше двух покосов не идут без отдыха - садятся закурить: кто сказки рассказывает, я немножко дальше сяду от мужиков, пою:
«Ходил Ванька по базару, он искал себе товару. Не нашёл Ванька товару по своему нраву. Нашёл Ванька востру косу для своего сенокоса. Косит Ванька чужие травы, а своя сохнет, вянет. Любит Ванька чужих женок, а своя тужит, плачет. Своя жена тужит, плачет, Ванюшу ругает: «А ты клялся, мой Ванюша, что век не покинешь. А теперь, мой Ванюша, меня покидаешь. За другими, мой Ванюша, да ты пагоняеш. Выйду, выйду за ворота, все мохи да болоты. Выйду, выйду за другие, все луга зеленые»».
На втором отдыхе я пела отрывок из «Коробочки»: «Хорошо было детинушке сыпать ласковы слова, а трудненько Катеринушке парня ждать до Покрова. Как поедет да засватает на чужой на стороне, а у девки сердце падает: ты женись, женись на мне. Не дворянка, не купчиха, и нравом хороша. Буду я невеста тихая, работящая жена. Выйду, выйду степь широкая, я там до ночьки прокошу. Своему мужу, мужу верному я в работе докажу».
Демьян встает, а некоторые мужики, которые любят слушать мои песенки: «Эй, ты куда встал, еще соловей свою песенку не допел». Встали все, пошли опять, как гуси, растянулись по лугу. Но не одной мне было тяжело, были мне товарищи: парень, приехавший из Питера, звали его Сенька Блинов. Он косить совсем не умел, а только учился - ему даже было совестно, у него не было ловкости, а сила была: он как махнет, так загонит косу мысом в землю. Потом выдергивает косу, спешит, чтобы товарищи не догнали. Да еще подсмеивают, что, Сенька, это не в Питере по тротуару ходить под ручку с девчёнкой: та идет, только сапожками чикает, а эта мысом в землю лезит. А ему, этому Сеньке, очень хотелось, чтобы впереди меня ходить или тут же вслед за мной. Но ему это не удавалось впереди: я сама над ним смеялась, что - уходи, Сенька, а то пятки отрежу! А вслед за мной шёл, никого не пропускал, паренек одной фамилии с Сенькой, тот, которому я пела «полушубочик коротенький». Когда кончили работу, пошли домой. Я шла позади и напевала: «Маруся отравилась, в больницу повезли»; потом пела: «Любила Маруся друга своего, она не любила больше никого». Еще пела: «Сухой бы я корочкой питалась, холодну воду я пила, с тобой бы я, милый, наслаждалась и тем довольна я была».
Две песни «Стенька Разин». Начала петь тюремную «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно». Еще тюремная - «Голова ты моя удалая, долго буду тебя я носить. А тюрьма ты моя роковая, долго буду с тобою я жить. Для чего я на свете родился, для чего родила меня мать? Для того я на свете родился, чтоб тюремную жизнь испытать. Сколько лет я сижу за решёткой и не вижу неволи конца. Знать, умру на тюремной постели, похоронят меня кое-как. И родные меня не помянут, не поппачит по мне родимая мать. Только буйные ветры завоют, загрохочет гроза посильней».
Из нашей деревни один дяденька отбывал в Сибири 12 лет на каторге. По отбытии пришёл на родину и очень любил тюремные песни. И всегда он слушал и следил, как я пела. В другой раз даже слезы скатятся из глаз. Он нам часто рассказывал про Сибирь, про непроходимую тайгу, что там очень много богатства, много всяких зверей, золото, там все есть в тайге.
Часть 3
Хорошо помню, как началась война в 14-м году, Первая Германская. Тогда пошёл на Россию Вильгельм, стали мобилизовать всех мужиков. Много было слез по отцам, по братьям, по мужьям. В деревне стало пусто. Только в нашу деревню заходило много солдат, а кто они были - дезертиры или партизаны, я этого не знала. Наш дом был крайний от большого леса. Через Смоленский большак проходил овраг, глубокий, заросший кустарником, выходил прямо к нашему дому. Вот к нам, бывало, то в лес или из леса спрашивают дорогу, и поесть часто просили. Но мать у нас была не скупая, она кормила с последнего куска, а то и ей даст хлебушка и сала. Часто приходилось мне «зайцам» дорогу указывать: немного проведу по оврагу и рукой укажу в ту сторону, куда им нужно итти, а сама что есть у меня духу бегу дамой. Я очень боялась волков. По этому оврагу часто ходили волки к нам в деревню, воровали со двора овечек и поросят. А собак часто таскали: подроется под заваленку, сделает дырку, как ему пролезть под стену - у кого крепкая стена, а у кого разваленная - туда не полезет: или он боится, что его стена задавит. Мы даже удивлялись волчьему ремеслу. Один раз мы были очевидцами его ремесла: мы ведем на ночлег с Максимкой - что такое? Лошади зафыркали, уши натапырили, готовы в галоп бежать. Смотрим, а он из деревни прет, прет поросёнка, у него на спине был поросёнок. Немножко свернул с дороги, нас обогнал, он спешил к себе на ужин.
Часть 4
Мне исполнилось 15 лет, пошёл шестнадцатый год. Работа мне не страшна была вся крестьянская, я была приучена с малых лет ко всяким работам - пахать, бороновать, возы топтать и класть, косить, жать. Я подружкам завидовала не раз, что у них братишки эту работу делали. А у нас нет братишек, нам приходилось, девчонкам, везде заменять мужицкие работы. А подружки всю весну сидели в холодке, вышивали, вязали кружева, от солнца прятались, чтобы было лицо беленькое. Когда пойдём на первую горку на ярмарку, у них все наряды были приготовлены не спеша: пошит сарафан, вышита русская рубашка. А мне опять забота, у меня нет приготовленного ни сарафана, ни вышитой рубашки, и лицо все обветренное загаром: даже нос весь облупился, как ракушка. Думаю: кто на меня посмотрит, на такую облупашу. Хотя бы помылась мылом. Лицо не любит мыла, еще хуже от мыла сделается красными пятнами. Но я подладилась направлять свое лицо: умывалась сладкой сывороткой и теплым молоком, после - чистой водой, и лицо делалось свежее, от загара - бронзового цвета. Но все же я не хуже своих подруг выходила на ярмарок. Я не поспала три-четыре ночи - у меня пошит был сарафан, вышита вгладь русская рубашка - очень нежный узорчик. У подружек были вышиты в крест, а моя рубашка была вышита вгладь - теперь у меня немножко сердце успокоилось, я тоже буду не хуже своих подружек выглядеть на народе. Лицо у меня чистое, от загара - бронзового цвета, глаза темно-голубые, нос умеренный, щеки обрезанные. Когда нет загара на лице - лицо белое, свежее, румянец на щеках. Веснушек не было. По тому времени я была не хороша и не плоха. Но чужим людям я многим нравилась, даже указывали пример некоторые старики мною. Вот Кузьма Макаров старик говорит на свою дочку Наташу: «Вон как бы ты была у меня такая дочка, как у Ивана Кузьмича или у Пелагии Дмитриевны дочка, вон она как вихрь везде и на работе, и на песни, за ней все общество гонится. А ты у меня - сидишь, как кукла, всю весну под яблонькой и путно себя не образишь. На тебе и сарафан сидит как на чучале. Хотя бы поучилась, как Агрипина себе шьет сарафаны: смотри, на ней как на игрушке одет сарафан, любо посмотреть на нее чужому человеку». Но, конечно, зависело тут от сарафана и от фигуры. У меня была красивая фигура, а у многих фигуры не бывает: хотя на нее чего хочешь надень, она все будет сидеть мешком.
Вот начали собираться на ярмарку. Подружки намазюкаются, пудрятся, некоторые даже накрашивали себе щеки, губы. Я умылась чистой холодной водой, обрызгалась духами (я очень любила духи, а пудру и краску я ненавидела; пудра и краска очень съедают цвет лица). Мои подружки: Таня только душилась, а Мотя пудрилась. Мотя недурна была на лицо, а Таня была очень белобрыса. А Наташа - та пудрилась, и красила, и душилась. Наташа серчала на меня и на своего отца, что он ее укорял неразумной. Она нагаваривала на меня все нехорошее, на себя она не оглядывалась. Она была хуже всех нас, девчат, и очень язычок был слаб, и везде все она первая знала. Когда оделись, я вышла в своей новой русской рубашке вышитой вгладь. Всем девчатам моя вышивка понравилась, так и теребят мой рукав, разглядывают, дивятся: черт, когда успела вышить? Меньше всех любовалась Наташа - она имела нивзглядность ко мне. Один раз взяла, намылила густо свои руки мылом - да прямо мне по лицу и провела, чтобы мое лицо испортилось, сделалось красными пятнами. Я все тихо переносила, не ругалась с ней.
Пришли на Горку. Горка у нас была в престольный праздник в Егорьев день - 23 апреля по старому стилю. На ярмарках мы танцевали мало, а на качелях качались много: в люльках на коньках. Но в люльки мне не пара качаться, мы занимали втроем люльку - Мотя, Таня и я. Ребята тоже втроем присаживаются к нам в люльку. Заведующий каруселью приказывает слезть двоим: полагается только четырем сидеть в люльке, а нас шестеро. Вот как прокатаемся, карусель остановится, я быстро выхватаюсь с люльки и тут же сажусь на конька. Прыгала я очень легко, не по-девичьи, а по-казацки. Тут же Таня за мной. Я ее подхвачу под руку, чтобы она быстрее села на конька, и дело в порядке. Я не любила с ребятами кататься: я не знала, что с ними говорить, поэтому и избегала их. С Таней мы прокачались почти целый день изнароку, чтобы нас из ребят никто не пригласил качаться - этим мы и отделались. А Мотю придержал паренек, мой подкрестный брат. Мотя и Кузьма - они маленькие дружили, и по годам они были ровесники. А я моложе на два года была, меня еще привлекали карусели. Внутри карусели играла шарманка песню: «Любила меня мать, обожала, что я ненаглядная дочь», а я эту песню неполностью знала, я и подучила ее, качавшись, и всю запомнила. Когда собрались все кругом итти домой, ребята и мы, все, то мы пели песню «Ломцева»(«Ланцов задумал убежать»), вторую «Как булат удалой («Хазбулат удалой»), бедная сакля твоя. Золотою казной я осыплю тебя. Дам коня, дам кинжал, дам винтовку свою, а за это за все ты отдашь мне жену». И вот эту песню пели, мне она очень понравилась, ее мотив. Я ее пела точь-в-точь, как играла шарманка. Мы пели все: «Любила меня мать, обожала, что я ненаглядная дочь, а дочка с милым убежала в осеннюю темную ночь. Бежала она лесом дремучим, бежала она рощей густой. На небо взглянула, вздохнула и вспомнила дом свой родной. Не надо мне рощи зеленой, не надо мне цвет голубой, а надо мне мать родная, и надо отец мой родной. Мой миленький скоро уедет, останусь я сиротой. Уедет, он больше не приедет, оденут военную шинель. Гуляй, я тебе не мешаю, гуляй же с подругой своей. Подруга подруге сказала: «Умри же, соперница, и ты!» - «Меня же со свету согнала, прими же отраву и ты!» Отрава моя не дорогая, всего она стоит пятак. А жизнь ты моя молодая погибла у юных летах».
Вот спели эту песню дружно. Она у нас получилась хорошо. Дорогой шли до дому все веселились, а домой пришли, почти всем пришлось поплакать. Получили письма с фронта: у кого был отец ранен, у кого брат убит. У нашей Дуни муж был ранен. Но в молодые годы горя-печали долго не бывает, она быстро у нас проходила - в песнях, в работе, так как теперь приходилось все работы начинать моим подружкам: братья ушли на фронт, им приходится учиться взрослым крестьянским работам. Им даже было совестно в некоторых работах, что они не умеют работать. Мне не раз приходилось и подучивать. Подружки мне не раз завидовали, что я так ловко научилась работать. А было время, что я им завидовала, что они сидят, не работали. Пан стал реже нам заказывать к нему на работу. Или почувствовал революцию. Скотина наша также ходила на его пастбищу, мы работали только на своей полоске.
Дуня наша только вышла замуж, и мужа взяли на фронт и тут же ранили, прострелили правый бок и захватили часть легких. В Смоленске он лежал 8 месяцев в госпитале, потом выздоровел и был на поправке. А сестра Дуня сильно испугалась, как мужа ранили, получила нервеное расстройство и долго болела и стала нехороша с мужем. Он после ранения стал гулять с другими. А был красивый, умный, работал все писарем. А Дуня только страдала. А я хорошо помню, как они ухаживали и любили друг друга. Бывало, Дуня пойдёт брать лен, и я с ней. Лен вырос в то лето очень большой, больше меня. Мне было тогда девять лет. Я стану лен дергать, не выдерну и начинаю ругать лен: «Ошалел, какой вырос большой!» Немножко замучаюсь от жары, подленюсь. А тут еще рядом был посеен у соседа горох - это смущало меня, чтобы нарвать гороха стручков. Не столько беру лен, сколько звягаю (Звя'гать - клянчить, просить плаксиво и неотступно (Вл.Даль)), чтобы Дуня отпустила меня в горох. Только отпустила, пошла нарвала полную запазаху стручков, встала, оглянулась, вижу: идет человек прямо к нам. Я не разглядела, какой человек, встала и что есть духу помчалась к Дуне. Дорогою рассыпала все свои стручки гороха, села на снопы чуть ли не плачу, что рассыпала весь горох. А человек тот спрятался за горку. Потом выходит из-за горки, идет прямо ко мне, я же не знала, что это Дунин парень. А Дуня будто его не замечает, поднялась с горстью льна и улыбаится. Парень подошёл, поздоровался за руку с Дуней и со мной, но я руки не подала: я так обозлилась, что готова была впиться ему когтями в горло. Зачем, говорю, пришёл, какое тебе дело тут? Он отвечает, что горох пришёл стеречь. Они чего-то поговорили, собираются итти гулять. А я от зла не могу проговорить, но проговорила: «Ты пойдёшь гулять, а я побегу к батьке и скажу, что ты не берешь лен, а пошла гулять, да с таким противным парнем, что я через него весь горох рассыпала!» Как они не уговаривали меня, чтобы я одна шла домой, но я не пошла. Пришлось парню итти одному, а Дуне со мной. Но немало мне всыпала Дуня кулачков в горостях. Мне было больно, но легче было, чем я рассыпала горох. Но никому я ничего не сказала - ни про Дуню, ни про горох, а в тот раз не пустила Дуню с парнем.
Настаёт 1917 год. Приезжает к нам на побывку этот самый Дунин мужик. Он рассказывает, как началось восстание в Петрограде, к чему новая жизнь поведет. Что разгромят помещиков, а землю отдадут крестьянам и будут голосовать за большевиков и за меньшивиков. Вот он рассказал нам, освежил нам мысли и предупредил всех в деревне, чтобы голосовали за большевиков. А сам пошёл в соседние деревни тоже предупредить народ, чтобы голосовали за большевиков. Большевиков билет будет голубой с красной полоской, а меныпивиков - совсем белый. И еще предупредил: «Смотрите, не ошибитесь!» Люди, когда началось голосование в доме бывшего помещика, нашего зятя избрали в подсчётную комиссию. Голосование прошло хорошо, в пользу большевиков. Скот уже помещика поделили крестьяне. Вот и нашему зятю выделили избу и молоденького жеребочка двух лет, хомут, плуг, телегу. А землю весной поделили или полосами. И вот стал наш зять жить крестьянством, но работать он не работал, а работала по крестьянству жена Дуня. А он сидел все время в конторе. Многих наделили крестьян землей, но не обидели молодого барина, тоже дали 12 десятин земли и пару лошадей, всю упряжь, инвентарь и комнату, где жили его отца работники - изба называлась семейной - вот в той избе дали ему комнату.
Отец и мать не пережили этого погрома - умерли. Еще был старший брат - тот здесь не жил, жил в другом имении и Белоруссии. Молодому барину землю дали поблизости от его старой усадьбы. Земля была хорошая. Дом заняли под контору. Еще жил заведующий завода. Завод сдали государству невридимый, кроме той промоины.
Вот идем мы с отцом в лес за жердями, а он пашет около леса, молодой барин. И как раз мы подходим к лесу, и он подъехал к лесу, остановил лошадей и машет рукой нам, чтобы мы подошли к нему. Отец подошёл, барин говорит: «Иван Кузьмич, давай посидим маленько». Они сели на пенушки, а я села прямо на траву, и так всмотрелась пристально на барина. У него была одета рубашка кремового цвета, косоворотка, воротник был растегнут, с лица пот плыл ручьем. Шея у него была толстая, но немножко похудела. Это ему придавало больше аккуратности. Слышу, как они разговаривают. Барин творит: «Иван Кузьмич, почему ты ничего не взял себе из моего имущества?» Отец отвечает барину: «Мне пока не нужна корова, у меня есть кобыла, жеребенок. Больше мне не надо: у меня сыновей нет, делиться не с кем, хватит и этого хозяйства с меня. Земельки добавили полоску - и хорошо будет». Барин послушал, что отец ответил, помолчал немножко и говорит: «Иван Кузьмич, знаешь ты, что у нас взяли всю землю, хозяйство. И у вас возьмут: собственности не будет, будет все общее». Отец ответил: «А кто ж ее знает, что будет?» Барин говорит и указывает пальцем на меня: «Если ты умрешь, то девчонка будет помнить, что я сказал правду». Мы пошли в лес, стали резать жерди. И отец все задумывался, что ему наговорил молодой барин. А я обчищаю сучки и пою: «Ничего в лесу не слышно, только пташечки поют. А все пташечки попарно, а кукушечка одна. А все девочки с дружками, а я девочка одна».
Эту кончаю, еще начинаю, у меня им конца не было.
Пришли домой, ко мне прибегает Мотя, запыхалась, разволнованная. Я спрашиваю: «Что с тобой?» Она говорит: «Грушенька! Кузьму, Сеньку, Захара, Алексея, Осипа берут в солдаты». Я на эти вопросы ответила Моте спокойно: «Ну что ж, пусть идут, защищают родину. Пусть будут отважными, как Чапаев - придут героями к нам». Мотя чуть не заругалась со мной с горячки, повышенным голосом говорит на меня: «Неужели тебе не жалко ребят, что их берут?» Я спокойно отвечаю: «Станешь всех жалеть - скоро у тебя сердце сожмется».
Наутро нам в самом деле пришлось провожать. Мы проводили до половины дороги, до района, пели песни: «Чапаевские горы и долины, я вас вижу вновь». Вторая песня: «Мы сидим в открытых ямах, снег и дождик моросит, как засыпляют с пулемета, но, поверьте, нельзя жить». Пели «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья». Распрощались, пожали руки друг другу, поцеловались. Они нам пообещали писать письма, и мы обещали им отвечать, кто умеет писать. Они пошли, наша толпа остановилась. Мы все им махали руками, покамест скрылись за горку. Мы вернулись домой, все разговариваем, что у нас осталось очень мало молодежи. Мотя еще никак не успокоится, слезы не уймет, глаза стали красные от слез. Я хотела посмеяться над ней, но как-то постеснялась, думаю: может и мне будет жалко, когда возьмут моих ровесников. Но мои ровесники еще не ушли, для меня были все равны, безразличны, все друзья! Но Мотя у нас совсем завяла, стала скучать и все приходила ко мне, спрашивала: не прислал ли Кузьма письма мне, но письма пока не было.
В нашей деревне в этот год снял в аренду все усадебные огороды еврей Хацкаль. У него было три сына: первый - Санька, второй - Алька. И Абрам - самый малый и самый злой. Сдавали, конечно, от недостатка: заранее наберут у еврея хлеба, сало, керосин, а потом приходилось за долги сдавать в аренду самую хорошую землю. Вот деревенские женщины, девчонки все ходили к еврею в подёнщину. Платил всем поровну - по 40 копеек за день. Ходить было близко в подёнщину, на свои огороды. В огородах только еврей сажал капусту, брюкву, огурцы. Вот мы пололи рядом с Мотей по две гряды. Мотя не отходила от меня ни на шаг. Мне ее не раз приходилось убеждать, но мои убеждения на нее не действовали. Как полола она две гряды, так задумалась - и все огурцы вместе с травой повырвала начисто. Гряды остались голые, я оглянулась назад, даже испугалась: «Ой Мотя, что ты наделала, ты уж ошалела? Где огурцы зачем повырвала, теперь Хацкаль нам не заплатит по 40 копеек!» Мотя на меня посмотрела и дрожащим голосом говорит: «Ну и черт с ними, с этими огурцами». А потом говорит: «Как же сделать, чтобы было хорошо? Помоги, Грушк, я правда, знать, скоро ошалею». Я повторила: «Раз памяти нет в голове, то ошеливай!» Он, небось, Кузьма твой, и в ус не дует о тебе, а мне вот и за тебя все обдумывать, да уговаривать тебя, как дурочку». Опять моей голове болеть надо, придумывать. Но долго не думали. Вырванные огурцы выбрали из травы, перебросили на мои борозды. А когда придёт проверять хозяин, то скажем, что были недосеяны и всему будет конец. Как раз пришёл проверять старший сын, он был хороший парень - посмотрел: ну, правильно, что не досеили. Он никогда никого не ругал, а когда подошёл Абрам, этот стал ругаться с нами. Это был неугомонный ирод. Мы его поймали, завалили, наложили ему крапивы полную запазуху, да еще натёрли крапивой ему по пузу. Больше к нам даже близко не подходил, боялся нас. Еще Абрам не любил у нас одну бабку - она часто пела песни, и мы все слушали. Но работа шла медленно, покамест она поет. А то подымется с гряд, да и начнёт плясать Левониху, Русского и припевает, в ладошки хлопает, падухивает. Первая: «А и Тишка Левониху любил, черевички Левонихе купил. Левониха была ласковая, черевичками набрясковала». Вторая: «Ах, тетка, лебедка моя, понравилась походка твоя. Походочка твоя частинькая, говорычка твоя ласковая. На работу незавидливая, твое сердце прикидливое». На третьей песни тут уж она разойдется как следует, возьмется в боки и как приударит «Барыню» на своих грядах! А то куда в сторонку отойдет, поет: «Я песню спел и капусту поел, пятьдесят поросят, свинью семеницу, овцу яловицу, семьсот пирогов и три вороха блинов. Иди ты, иди я, иди милая моя, мы скуваимся в моломе. И кто найдет нас, тому вырвет глаз. Кто ниправдою живет, разорит тому живот».
Которые не останавливаются, те далеко отгоняют от своей гряды, около тех стоит Абрам и ругается на чем свет стоит. На нас подходить боится, что еще рука саднит. Санька подходит к бабке Акулине и просит, чтобы мы постарались догнать тех. Мы догоним и обгоним тех, знаем, что бабка Акулина еще чего либо выдумает.
Бабка Акулина жила с дедом Якуткой. Дед намного старше был бабки, он не любил ее выдумки и песни, но часто бабка чудила над дедом Якуткой. У деда Якутки Акулина была уже третья жена, а те все молодые умирали. Вот он эту жалел Акулину до безумия и ревновал ее. Бабка его пугала, что не будет с ним жить. Вот соберет в мешок какого хлопья, навалит себе на плечи и пошла вдоль деревни. Соседи уж знали ее укази - идет, прощается: «Ухожу прочь от Якутки, кокой шут он мне старый такой? Я найду помоложе себе». А дед бежит вслед, руки подожмет к животу и кричит во весь голос: «Акулинушка моя, Акулинушка, вернись, больше не буду тебя докорять: пой и пляши сколько хочешь, только вернись!» Вернется, дед ее обнимет за шею, идут домой. А мы стоим толпой, все смеемся около них до упаду.
Вот дед Якутка и женил своего племянника Гаврила на Акулинениной племяннице Аришке. Дед рассчитывал на будущее: когда поженят своих сродичей, они будут жить вместе и будут приглядывать и помогать старикам. Но так не пришлось, как думал дед Якутка: несмотря на то, что у деда было много жен и детей, родных у него не было. Вот у деда создалось мнение, что Гаврил ему будет за родного сына и Гаврилу достанется дедово наследство - плохая избенка и десятина земли и все. Но Гаврил, как уж про него читателю немножко известно, пошёл в Москву, нашёл себе работу в Дорогомилове. Ему было весело и хорошо, он не то что про деда Якутку не вспомнил, а свою законную жену Аришку и сына Герасима забыл. Так деда Якутку и похоронили соседи, а наследства у него уже не было: избёнку бабка продала.
Прошло месяца два. Прислал Кузьма письмо на мое имя. Но мне только привет, все содержание письма - Моте. Но как она совсем неграмотная, не может ни читать, ни писать, а я хотя немножко умею читать и писать, мне говорил брат Кузьма, что и будет писать письма на мое имя, я буду читать и писать Моте письма. Как я была посредник ихней дружбы, получив письмо почти вечером, я не хотела к Моте бежать, потому что нам нужно читать, чтобы никто не слыхал и не видал из своей семьи. Тогда ведь совестились старших. А на меня писали до востребования письма благодаря моего двоюродного брата - он работал на почте, и мои письма никому не отдавал, приносил сам и сам мне отдавал. Из семьи у нас никто не знал, что я получаю письма.
Какой-то был праздник, не то Духа, не то Петра. Моя мама проспала, не выгнала скотину на поранки к пастуху. Мать будит меня: «Вставай, или гони скотину или пироги меси - выбирай любое». Я выбрала - лучше погоню скотину и там дело есть - прочитаю письмо Моте, наедине никто не увидит и не услышит, как будем читать. Мотя пасла скотину с братишкой, как раз в это утро пасла сама Мотя, а меньшему братишке дали отдых, так как был праздник. Я пригоняю скотину свою к стаду. Стадо уже около леса было, коровы пошли в кустарник, овечки и свиньи остались на ляди (Лядинник - мелкий берёзовый лес. (Вл Даль)). Я перегнала корову через дорогу: корова пошла к коровам в кусты, овечки - прямо к стаду. Мотя увидала - бежит навстречу ко мне. Я ей помахала письмом, вижу, что брат ее скрылся в кустах с коровами. Мотя еще прибавила духу бежать ко мне. Как добежала до меня, увидела письмо, тут же стала просить: «Читай скорее!» Она уже вышла из терпения. Я говорю: «Подойдем поближе к овечкам». А Мотя настаивает: «Тут читай». Мы тут же и сели - она села под маленькую елочку, а я села на пень - читаем: привет сестренке Грушке, живу, привыкаю к учебе военной, у нас хорошо, весело, потом начинается: «Дорогая Мотя, не печалься, что долго не писал тебе письма. Прими от Кузьмы сердечный привет и горячий поцелуй». Мотя от радости засмеялась, а я взглянула на овечек: и что-то овечки бегают кучей, то в тот бок, то в этот бок. Я встала, смотрю на овечек - они также волнуются. Мы от овечек были метров 200, читали это письмо. А Мотя даже не встала, а на меня прикрикнула: «Да ладно, что ты вгляделась, будто овечек не видала, дочитывай скорее, там дальше будет наверное интересней!» Я стала дочитывать: «Вот, дорогая Мотя, когда вернусь, приду с победой, будешь, верна, моей. До свидания, целую крепко - твой верный Кузьма Артамонов». Я не успела спрятать письма, как все овечки бегут к нам, а мы к ним, видим: волк уже кладет овечку себе на спину. Зарезал старую овцу, никак не положит себе на спину: она переваливается у него со спины. Мы стали бросать в него палками. Волку жалко бросить добычу: он не отбегает, а торопится положить овцу на спину. Коровы услыхали эту тревогу - бегут, ревут, прямо на волка. Я стала, что духа есть, кричать на лугу: «Петрак Петька!» А Мотя схватила меня за рукав, говорит: «Дура, не ори, а сперва свистни! А то волк пёрднит, а у тебя голос перисядит, будешь хрипатая». Я все равно бегу, ору во всю мочь. А Петрак наперехват бежит прямо на волка, и кнутом от заду волка как хлыстнет! Волк прыгнул, зубы оскалил и стоит. Тут коровы налетели, стали бодать. Еще Петька дал ему кнутом по заднице. Волк так освирепел, больше некуда, да коровы пошли ему вокруг: он знает сноровку коров, стал отступать. Если коровы волка загонят вокруг, тогда запорют рогами. Волку не хотелось, но пришлось нехотя убежать в другое стадо. Мы все втроем наблюдали за волком, потом он скрылся, мы собрали стадо все в кучу и не дали расходиться, покамест все не успокоилось. Утра было туманное, нескоро выглянуло солнышко. Я у Моти спрашиваю: «Кто тебе такую примету говорил - когда на волка крикнешь, то горло охрипнет?» Она говорит: «Это наша бабушка рассказывала, что у них так случилось вправде». Ну, все успокоилось, я побежала домой. Мне хотелось запеть песенку, но я вспомнила, что мне надо торопиться сказать Деми, чтобы он ехал за овечкой. Демьян за овечкой не поехал, говорит: «Я не буду волчиные оглодки есть. Он предложил беженцу: у нас жил гражданский беженец с семьей. Беженец поехал, забрал овечку, обрезал, где волк грыз. Мяса было больше пуда, жирное. Беженец Павел и скушал на здоровье, а я с Мотей во всей вине, просчитали овечку. Если бы не читали письма, мы волка не допустили бы к стаду.
Не прошло недели после Мотина письма, приносит и мне брат письмо от коротенького полушубочка. Но содержание письма не такое, как Мотино, а просто товарищеское. Я не сказала Моте, подруге, про свое письмо, и дома никто не знал.
Я пошла на гумно за овин, там прочитала. Взяла листок бумаги, карандаш, прижала к тесаной доске и написала несколько слов, отнесла письмо к брату Афанасу: когда пойдёт на работу, письмо опустит. Был тоже праздник, я собралась в церковь. Подруги зашли, отец уже давно ушёл. В церкви увидела отцеву крестницу, Варьку, поздоровалась с ней. Возле нее стоит паренек небольшого расточку. Он на меня посмотрел, а я на него взглянула, и пошли с девчатами: на паперти стояли. Уже заутреня отошла, а обедня еще не начиналась. Я подумала: почему Варька сегодня в нашу церковь пришла? Она вышла замуж в другой приход! Я вижу, как она остановилась около отца. А паренек не отходит от них всю обедню - они стоят вместе. А мне, когда я стояла на паперти, влезла в голову песня «Изменщитца», я мысленно ее передумала: «Над серебряной рекой, на желтом песочке там ходил парень, искал знакомые следочки. Знакомого следа не нашёл. К божьей церьковке пришёл, он остановился. Он на паперь взошёл, он перекрестился. В божью церковку взошёл богу помолиться, там изменщицу мою водят вокруг налоя. Стала неверна моя мила, не верна на слова. Она покинула меня, как былинку в поле». Вот продумала песню и вошла в церковь поближе к алтарю. Там побольше развлечения, а то еще какая-либо придёт песня на ум: от обедни отвлекаешься, не прослушаешь обедню, это на себя грех возьмёшь. Так нас маленьких внушали священники.
Вот кончилась обедня, было две свадьбы венчать. Начали приготовляться к венцу: поставили аналой, постелили подножник, рядушком поставили женихов с невестами. Вот мы остались смотреть - Мотя, Таня, Наташа, покамест перевенчают. Наташа говорит: «Надо учиться, как себя держать, когда будем невестой». А Наташу сватал вдовец, у него было трое ребят от первой жены. Но Наташа не сразу пошла за вдовца, а думала, что к ней той холостой приедет сватать Николай, которого она, по-видимому, любила. Но он не приехал, пришлось выходить за вдовца на трое ребятишек.
Как мы все девчата знали, как желала Наташа выйти замуж за Николая. Николай был сорванец, росту он был очень высокого, тонкие ноги были как у аиста, и на словах парень несправедливый: глазом подморгнёт, рукой прищелкнет, наговорит чего вздумает этой Наташке. А она верит ему и переспрашивает у нас: «Правду, это, девочки, он говорит?» Мы отвечали: «Мы почему знаем, ты его больше знаешь». Вот один раз она было замёрзла через этого Николая: на снегу стояла часа два босиком. Это я была очевидец этому делу и сама участвовала перед Новым годом.
Как бывало обычно, гадают девушки на кур, на коров. Пойдём, корову схватим за голову - это признак старшей невестки, за спину - средняя будешь, за хвост - последней будешь невесткой. Кур кормили. Захватишь с собой в карман зерен овса или ячменя. В 12 часов ночи берет каждая девушка себе по курице. Положим обруч середь хаты, высыплем зерно в обруч и пустим курей: приметим каждая свою. А хозяйка смотрит на курей и говорит нам примету: чья много зерна клюет - это будет жених обжора, много будет есть; чья воду пьет - тот жених будет пьяница; чья клюется - этот жених будет драчун. Потом дрова с улицы охапками приносили: в избе пересчитаем, сколько пар. Если слишку - не выйдем в этот год, в пару - выйдешь в этот год. Еще бегали под окнами с девятью картами слушать разговор. Если говорят «Пойдешь!» - значит пойдешь замуж, если нет - значит нет. А дед Захар был, покойник, чудак: всю ночь просидит возле окна, говорит: «Пошли, поехали!» Когда узнали, что он смеется, тогда его хату минувши. Прибегали с улицы со всеми новостями к хозяйке. Хозяйка у нас и разгадчица была Аришка: ее совсем бросил Гаврил, с нами она имела развлечения. Еще у нас трясли перстни: берет эта Аришка шапку с какого-нибудь парня, соберет кольца или перстни, положит в шапку и начинает трясти шапку, а руку опустит в шапку: чье кольцо вскочит на палец -тому и песня придётся. Начинаем песни петь, начинаем перстни трясти: «А чей перстенёк - того песенка, кому выдастся, тому справодится». Вот первая песня пришлась Наташе: «Около печи хожу, перепечи пеку». Эта песня - выйдет замуж и будет хозяйкой. Тане пришлась песня: «Сидит кошечка в печурочке с малыми котинятками» - эта еще посидит в девках. Мне пришлась песня - «Ходит кошечка да по лавочке, водит котика за лапочки». Моя песня была признана, что будут сватать меня, но не пойдешь, а поводишь котика. Моте пришлась песня - «На гумне иду - у трубу трублю, с гумна иду - я потрублию». Эта песня признана к горю. Парню за шапку спели: «А ты щеточка-богатырочка, покотилася на богатый двор, на сладкий мёд». Эта - возьмёт с богатого двора себе невесту.
Перстни все. Кончили петь, пошли на улицу через крышу бросать башмачек. А ребята за нами следили. Наташа первой вышла во двор, сняла башмак и бросила через крышу. А на меня говорит: «Беги поскорее, посмотри, куда мысом стал башмак, да гляди хорошенько». Бегом побежали. Покамест я обежала вокруг двора, ребята подхватили этот башмак да и спрятали за угол двора. И сами там стоят, караулят. Прибегаю я за двор, ищу башмак, а там одни следы, и снег весь потаптан. И кричу: «Наташа, я не найду башмак!». Она откликается: «Смотри, я второй брошу!» И тут же упал башмак с крыши. Я не успела схватить башмак, как ребята подбежали, схватили башмак. Я попыталась с ними бороться, но их было человек 6, я одна. Они меня втоптали в снег и только были, их след замело. Я прибегаю к Наташе: она стоит на снегу в чулках, ноги и чулки примёрзли к снегу. Она уже не может стоять от холода. Я проговорила: «Садись скорее на плечи ко мне!» Я навалила Наташу и потащила прямо в хату к Аришке, посадили на скамеечку и начали оттирать ей ноги холодной водой. Ноги привели в чувство, теперь надо итти искать башмаки. Всей гурьбой пошли искать башмаки. Но долго не пришлось искать, ребята тут же стояли за углом Аришкиной хаты и смеялись до упаду. Башмаки принесли, одевать невозможно было: ноги были опухши, так что Наташино гаданье было без результата, а ноги долго болели. Но болезнь заглушали интересы девичьи: болит, не болит, а вечеринку оставить нельзя.
Вечера два у нас не было вечеринок после этой штурмовки. Потом пригласили нас на вечеринку в Романовское, где жил этот самый Николай. Гуляли мы вместе четыре деревни поочереди. Как раз в этот день поднялась зимняя пурга, света божьего не видать. А вечеринку отложить нельзя, надо идти. Проход был небольшой, с версту через речку Вехру. Вышло нас человек 15 - девчонки и парни. Только вышли за деревню, с нашей деревни едет дядька на лошади на санях. Ребята говорят: «Дяденька, подвези!» Он отвечает: «Да вы не уместитесь на санях, да и лошадь не довезет». На ответ дяденьки ребята сразу все навалились на сани и на девчат, говорят: «Вались!» Мы все навалились. Наташа попала на сани, на ней сидели человек 8. Ноги ее волокли по снегу. Кричит: «Караул!» Ей невозможно придавили голову. Хорошо, что лошадь остановилась, дальше не могла везти. И тут река впереди, все равно пришлось слезать.
Мы все свалились в снег, отряхнулись. А Наташа лежит, не может встать, ее сильно придавили. Мы, девушки, подбежали к ней, подняли, отряхнули. А Наташа еле проговорила: «Я не могу идти!» У ней, как волоклись ноги по снегу, посадрали все до крови. Да три дня тому назад как были отморожены. Обглядели ее кругом: у ней сарафан - вся задняя пола оторвана. Стали думать, что ж делать? А ребята все пошли на вечеринку. С нами остался один паренек маленького росточка, звали его Максимка, годами он был старше нас. Что же делать? Домой ворочаться неохота, и Наташа итти не может. Мы ей и снегу давали грызть, и трясли ее, чтобы как-либо привести ее в чувство. Немножко полежала, мы опять ее подхватили под руки, пошли на речку, взошли на лед. На льду оказалась вода-вирховодка: в башмаках не перейдёшь. Вот нам Максимка пригодился, он был в сапогах: первою перенёс меня, а потом Наташу и всех нас 7 девушек перенёс. А Наташа вымыла лицо водой, ей, видимо, полегчало: или болезнь утихала, или она слыхала голос Николая, когда подходили поближе к избе, где уже во всем разгаре шла вечеринка. Наши ребята обступили нас: почему мы долго не приходили? Мы ответили: после узнаете, сейчас нет времени рассказывать.
Когда пришли на вечеринку, нас приветили хозяева вечеринки. Мы разделись, начали танцевать, петь. А Наташа сидела не раздеваясь и говорила, что она угорела, у ней болит голова. Максимку мы самого первого выводили в хоровод. Пели песню:
«В хороводе были мы, там парочку видали. Стань парочка, прибодрись, хоть у бачки возьмись. Хоть немножко протанцуй, когда любишь - поцелуй». Припев: «Ой, люли, поцелуй». Особенно в этот вечер мы Максимке еще больше дали поощрения, он у нас не выходил из хоровода, что ему доставляло большое удовольствие. Потом поставили его за мак, пели песню:
«На огороде мак, на широком мак. Ох мак, маковочки, золотые головочки, станьте вы так, как зеленый сад, не пускайте казачиньку с коровода вон». Вот за это он от нас и не отставал, наш Максимка. На вечеринках наша Деденковская молодежь имела тоже поощрение: у нас все ребята хорошо пели хором. Во время перерыва, когда отдыхает музыкант, мы садимся на видные места и начинаем петь: «Кто в жизни по песни шагает, тот нигде и никогда не пропадёт». Вторая: «Бывали дни весёлые, гулял я, молодец». Третья песня «Златые горы», четвертая песня - «Коробочка»: «Полным полна моя коробочка, есть и ситец, и порча». Пятая песня: «Вейся, вейся, не развейся ты веревочка моя». Потом - хороводная:
«Куда идешь, Филимон, куда идешь, братец мой, и своими боярами и из низкими уклонами?» Потом: «Со цветком я хожу».
Последняя:
«Летели две птички, ростом невелички». Припев: «Серенькой, беленькой, розовой, голубенькой».
Домой Наташу привели совсем больной. Она на вечеринке сидела, совсем изнемогала. Но не давала виду перед Николаем, что она больная.
Была такая мода: музыканту надо платить. Вот соберут деньги так: был такой чудак мужик - оденется в какую почудней одежину, в руки возьмёт палку, на палке будет привязан растоптанный лапоть. Садится на лавку и закричит во весь голос: «Сыночки, я вас женить хочу, по невесте сейчас дам, а вы за невесту заплатите 5 копеек!» Вот два мужика подводят парня уже к «батьке», потом девку ведут, вот «женят», заставляют целоваться «молодых». Но не все ведь согласны целоваться. Тогда ошметка пострашут, чтоб поцеловались. Это называлось: бахаря женить. Вот эти деньги отдавали музыканту.
После бахаря начинается также музыка, пляска. Часто танцевали кадриль, «рябину», в четыре пары: «Рябина, рябина, рябина кудрява, чего ты, рябина, засохла, завяла? Ой, лелюшки, лели, засохла завяла. Аль тебя рябина ветром заломило? Ой лелюшки лели, ветром заломило? Аль тебя рябина солнцем засушило? Ай лелюшки лели, солнцем засушило? Ай, лелюшки лели, солнцем засушило? Удовка, удовка, удовка молодая, а что ж ты, удовка, скучна, невесела? Аль тебе, удовку,свекрова журила? Лелюшки, лели, свекрова журила? Свекрова журила, свекор побить хочет. Ой, лелюшки, лели, свекор побить хочет».
Вот эту песню пели под пляску хороводом. А в середине две девушки или женщины пляшут: «На улице, на улице, на улице зелена, зелена. На дороги, на дороги, на дороги широко, широко. Там девушки, там девушки разгулялися. Молодушки расплясались. Меня, младу, меня, младу, меня, младу, да на улицу зовут. Пойду, млада, пойду, млада, пойду, млада, у свекра спрошусь. Ты, свекорька, мой батюшка, пусти младу на улицу погулять. - Хоть я пущу, хоть я пущу, но не пустят тебя. Пойду, млада, пойду, млада, пойду, млада, да у свекрови спрошуся. Свекровушка, моя матушка, пусти младу на улицу погулять. -Хоть я пущу, хоть я пущу, хоть я пушу, не пустят тебя. Пойду, млада, пойду, млада, пойду, млада, да у милого спрошусь. Ты, миленький, ты, миленький, ты, миленький, чернобровенький, пусти младу, пусти младу, пусти младу на улицу погулять. Как я пущу, как я пущу, как я пущу, так и кожу спущу. Кожа волочится, кожа волочится, а мне, младе, гулять хочется. Кожа таскается, кожа таскается, а мне, младе, все гуляется. Кожа оторвалася, а я млада нагулялася».
Дальше пели тоже плясовую: «Слезы мои горючие, не катитеся из глаз. Мне теперя не до вас. Расставаться с милым. В разставаньи-гореваньи жизнь разлука тяжела. Как я у батюшки жила - дочь любимая была. Я без пивушка не сяду, без калачиков не ем. Без милого спать не лягу, без надежды никогда. А хоть лягу - не лягу на высоком тереме, а где мухи не летают, комарики не гудят: только буйные ветрики похаживают, меня молоду прохолаживают».
«Вишенька» - тоже плясовая. «Ты, вишенька, садовая моя. Что ни я тебя садила, сама сеялася. Я любила молодца - не нагляделася: он и тонок и высок, его черненький усок. Кони сивые, штаны синие. А я прялочку взяла, в посиделочки пошла. А уже куры пропели, а я двору не шла. А прихожу ко двору, ко воротикам, я стук-постук в калиточку, обрязь-подбрязь у колечушка. Ах ты, старый черт, открывай ворота! - Ох ты, женочка-жена, где ночку была? - Ах ты, старый черт, за тобой ли жила? Ой ли, ой ли, за тобой ли жила? К стене личиком, к тебе ребрышком. А я ручки зжимал - обниматься ждал. А я ротик открывал - целоваться желал. Ой ли, ой ли, целоваться желал».
Еще тоже плясовая: «Я по рынку, я по рынку, по базару я ходила. Я ходила, я ходила, я гуляла. Золотой перстень, золотой перстень, золотой перстень потеряла». Особенно любили женщины песню: «Вот калиницу». Всегда плясали и в ладоши хлопали. «При в дольнице калиница цветет. На калинице, на калинице, на калинице соловей полевой. Горьку ягоду, горькую ягоду-калиницу клюет. Он малиною закусывает. Прилетели к соловью да три пташечки. Потащили соловья, посадили соловья за серебряную решоточку. На Макарьевской ярмарке там ходил - гулял добрый молодец - душа. Он стольное ружье, ружье заряживает. Он хочет убить серую утицу на реке, ясного сокола на каменной стене, красную девицу в высоком тереме. Серая утица - и потешка моя, ясный сокол - повестка моя, красна девица - невеста моя».
Часть 5
Пока я пришла из церкви, мать уже собрала обед, накрыла на стол и ждут меня. Отец, Варька и паренек сидят на завалинке, возле избы, смотрят на нас. Как мы идем весёлые с разговорами - кто и как невесты становились на подножник. Кто вперед - жених или невеста станет на подножник, тот первый будет уважать. Этот разговор мы давно слышали от женщин. Я дошла к своей избе, девчата пошли дальше. Я вошла в избу, мать говорит: «Быстрей переодевайся да обедать надо, а то люди давно ждут». Я ответила: «Семеро одного не ждут». Сели обедать. Я села на своем месте, где всегда сидела, гости сели напротив меня, я кушаю без всякого стеснения: я стеснения ни в чем не понимала, ни в еде, ни в работе, ни в песнях. Уважения я имела ко всем, я приветлива, заставляю гостей кушать без стеснения. Но паренек, видимо, стеснялся кушать. Он ничего не кушал, а только смотрел на всех и больше всего смотрел на меня. А я думаю: Варька привела нам паренька водить на ночлег коней. У нас летом водил на ночлег коней мальчик Архипка, Варькин родной брат. Но ему не хотелось водить на ночлег, он часто отказывался, вот я думала, что это привела взамен Варька этого паренька.
Пообедали. Гости стали благодарить за обед, а я с Архипкой вышла на улицу. Архипка мне говорит: «Ты не знаешь этого паренька?» Я отвечаю: «Не знаю, откуда ж я буду знать?» «Но я его знаю, - ответил Архипка. - Варька его привела к тебе в сваты. Я спорил с Варькой, что ты не пойдешь за него. Только скажу одно слово Грушки про твоего жениха - и она тебя пошлет и с женихом подальше, что ты и не вернешься!» Я видала, как Архипка спорил с Варькой, и она на Архипку намирялась кулаком. Архипка подбегает ко мне и во весь голос говорит мне: «Грушка, не ходи за этого жениха: он глухой и на ногах отморозил пальцы, когда с Крапивны возили спирт». Мне уже было известно раньше про жениха, да я и так еще не думала о замужестве. Я вошла в избу, стала навязывать платок на голову и собираюсь уходить на деревню. Мне отец и мать говорят: «Не ходи, надо с Варькой поговорить!» Я отвечаю: «Мне с ней нечего говорить!» А сама думаю, что вы ничего не знаете про этого жениха, а я уже все про него знаю. А меня то и дело торопит Архипка, чтобы быстрей уйти на улицу. Я сказала гостям: «До свидания!» - и ухожу на деревню. Меня схватила Варька за рукав и держит, начинает говорить, что я все знаю. Я не стала слушать, осторожно освободилась от ее руки и ушла. Мать хотела поругать меня, но отец не позволил. Я немного отошла от своей избы и запела частушку:
Мою милку сватали -
Меня под сани спрятали.
А я вылез с под саней -
И к милашке поскорей.
Не успела я допеть частушку, как уж около меня собралась толпа народу. Любопытные спрашивают: «Ни как ли Грушка тебя сватают?» Но я ни дала никакого виду и без внимания, любопытницы ничего не ответила и пела дальше частушку:
У меня миленок есть -
Срам - по улице провесть.
Штаны синие, худые.
Ноги длинные, кривые.
Эта частушка относилась к Наташкиному Николаю: в тово были ноги длинные и в коленках кривые. Наташа не любила эту частушку, когда я пела. Я пела своему жениху:
А у меня миленок есть -
Мордочка моржовая.
Мордочка моржовая -
Ножка отморожена.
А у меня миленочек
С мордочкой дулатой.
С мордочкой дулатой.
На ушка туговатой.
Подружки не знали, кому я пою. Только Архипка смеялся до упаду. После частушек я зпела песню «раёвничек». Я начала, мне подхватили хором дивчаты молодыя, бабка Акулина, молодухи - вся деревня звучала отголоском песен:
По дороги по широкой рай идет. (Рай - здесь: пчелиный рай.)
По дубрави по зеленой стелится.
Туды ж ба шли красные девушки с гульбою,
Они звали Наташичку с собою.
Идите вы, мои девушки, не ждите!
А я себе да раевничка споймала,
А белинькой раёвничек - Ильюшка,
Белая да раевничка - Наташа.
Который сватал Наташу вдовой, ево звали Илья. Мы и пели Наташе песню:
А по полю голубка, по полю.
А за нею сиз голоб, за нею.
Стой-постой, голубка, теперь ты моя!
Не твоя я, сиз голоб, не твоя!
Ищи себе такую, как ты сам.
Вылитиль я, вылитиль все леса.
Не нашёл я такие сизая.
А по двору Наташа, по двору.
За нею Илъюша по следу.
Стой-постой, Наташа, теперь ты моя,
Не твоя я, Илъюша, не твоя
Я выездил все города -
Не нашёл я такую, как ты молода.
Потом спели:
Речушка, да чево ты стоишь?
Наташа, ли каво ты, сидишь? (Ли каво - возле кого)
Девочки, возли Ильюшечки.
Наташа, ан люб он тебе?
Девочки, он не люб, он не мил.
Милой мой в пороги стоит,
Нелюбой - возле боку сидит.
Нелюбой горелочку пьет -
Милый водицу с криницы.
До того допелись, что Наташа заплакала навзрыд, ей тяжела была эта песня, она любила Николая.
Это мой был первый сват. Очевидно я понравилась жениху. Назавтра утром мой отец уезжает в волость (он был сельским старостой 12 лет), мне дает наряд вспахать полосу и побороновать, подготовить землю покамест он приедет из волости. Я запрягла лошадей, поехала пахать. Вспахала, побороновала я раньше обеда, выпрягла лошадей пустила на лужок. Был день как-то холодный, я была легко одета, прозябла, пришла домой пообедала и залезла на печку погреться. И тут же уснула немножко. Вдруг слышу твёрдые и быстрые шаги: ходят по избе. Распрашивает у матери, где семья. Мать ему рассказывает: хозяин в волости, девчонка младшая в школе, а средняя на печи. Он как угорелый по голенищу сапога как хлопнет плёткой, только отголоски пошли по избе: вот нам средняя твоя дочка и нужна, а я купец на твой товар! Мать знала, что это отец вчерашнего жениха. А мне уже была натация от отца и матери, что я не хочу выходить замуж в эту семью. Они жили по-среднему. Женихов отец был злой спекулянт или миньчевник (Миньчевщик - от слова "менять"), только менял лошадей с паинками и цыганами, евреями, одним словом, с кем попало. У него были каждый день переменные лошади, я уже все узнала от Архипки. У минчевника было три сына. Старший был женат, это второй собирался жениться. За первого сына он взял посагу (Посага - приданое. (Вл Даль)) с 100 руб, и за этого не в дёшеньку ему хотелось взять посагу, или хорошую девочку, чтобы она была в почести по селу. Вот я и принадлежала этого почета по селу, а посаги у меня не было. Минчевник заходит сбоку печи и будит меня. Я быт сплю крепко, мычу сквозь сон. А в самом деле я не спала и все слышала, его разговор. Он еще подовторяет: «Вставай, невесты не спят на печи!» Я ответила: «Я не невеста!». «А кто же ты?» Я ничего не ответила: взглянула на него - он мне показался чистокровный цыган, паинак (паинак - проныра, прохвост (Вл. Даль)), это самый злой миньчевник - обманывать темных людей. Одета у него была черная поддёвка, лакированные сапоги, на голове фуражка, в руках ременная плётка. По хате ходит - чуть не бегом бегает, подхлёстывает плёткой. Я неспеша слезла с печки, умылась, поглядела за двери, на чем он приехал: под окном стояла вороная кобылица. Запряжена в брички, упрякь вся в блёстках. Была тоненькая черная побулаком, вся блистит кобылица. Была очень красивого корпуса под видом рысачка. Я неспеша разглядела все и думаю, что это все - упряж и кобылица - не твоя, а цыганская. А приехал ты для форса, как говорила бабушка, что хвастливого с богатым не узнаешь. Но так она и была, что все чужая. Я вошла в избу, на мать говорю: «Дай еще поесть, да поеду пахать, пока приедет отец». Сама подошла к зеркалу, маленько причесалась. В зеркале я взглянула на миньчевника: он не сводит с меня глаз. У меня загорелось лицо, как ягодина во всю щеку румянцем. Я села кушать. Мать пригласила его обедать, но он не сел, говорит: «Тогда сяду обедать, если будет дело на лад!» Уж как он мать уговаривал, чтобы мать сбивала меня: неужели такая хорошенькая девочка и не послушает матери с отцом? Уж он бегал, бегал по избе, наверное - верст десять убежал бы, если бы в один ход пошёл. Он матери обещал, что мою и свою - обе свадьбы сыграет на свой счет. «Невесте платья к венцу покуплю, только уговорите ее!» Мать ответила: «Наверно, жених невесте не понравился или брак какой есть в женихе». Он ничего не ответил, уехал к отцу у волость. Мне видно с горки, как они едут на обратном пути: сидят оба на бричке. Подьезжают ко мне, остановились, ждут меня, когда я поближе подъеду. Я подъехала, повернулась, сказала отцу, что можно сеять ту полоску, и поехала в борозду. Слышу, как миньчевник говорит те самые слова, что говорил матери: все обещал. А потом плеткой взмахнул, садится на бричку и говорит: «Ну, до свидання, Иван Кузьмич! Хороша Маша, да не наша. Силой не возьмёшь!» Отец ответил: «До свидания, Анисим Ильич». А я говорю про себя: «Колесом тебя дорога!». Я не любила таких людей, которые жили чужим горбом. А как этот миньчевник, он мне сразу стал противным, хотя бы у него был жених красовый. Я не пошла б в такую семью из-за этого менялы. С первым женихом моим все покончено.
Теперь - получаю второе письмо от палушубочка, то есть от Блинова. В этом письме содержание было не такое - объясняется, что я ему нравлюсь. Он желает со мной иметь переписку и дружбу и на память шлет мне в письме маленькое колечко: под видом серебряное, но покрашено желтой краской как золотое. Я развернула с бумажечки это колечко, померяла на все пальцы: та не лезет. Но на четвертый палец налезло. А носить его мне нельзя: узнают, будут спрашивать, где взяла, где купила. Это одно. А раньше я слыхала, что кольцо получить в юдарок - не к дружбе, а разлуке. Хотя у меня еще с Блиновым никаких дружб не было, я положила колечко в карман. Так носила его в кармане. Пошла я косить свой пай одна, отца тот раз со мной не было. Я косила одна, луга были топкие, грязные со ржавчиной. Уподал в самую реку Вехру концами и в дорогу, что шла возле поля проселочная дорога. Вот я как зашла от поля от дорожки и гнала свою полоску в речку. До половины полоски скосила, стала отдохнуть. Сесть нельзя было. Я остановилась: дай, померяю это колечко, мне никто не помешает. Только вынула из кармана, развернула бумажечку, стала надевать на палец - оно прыгнуло, упало в траву. Я стала искать. Искала долго, всю траву вокруг перещупала, рядашками разобрала. Потом всю повырвала траву на этом месте. А трава была - осока, она крепкая, не рвется и резкая. Я даже себе пальцы обрезала. Так и не нашла. Потом встала, плюнула на это место и начала докашивать полоску. Но сколько я время провела! Я давно бы полоску докосила. Это было приключение кольца.
Когда я шла домой, мне было почему-то удивительно и досадно, что так выпрыгнуло из рук кольцо. Вот я запела песню: «Потеряла я колечко, потеряла я любовь». Но любви у меня ни к кому не было, и особенно к Блинову. «Я по этому колечку буду плакать день и ночь». И тут же себе говорю: «Нет, я не буду плакать. И зачем? Это все - ерунда». И продолжаю дальше: «Где девался тот цветочек, что долину украшал? Где девался тот дружочек, что словами обольщал? Обольстил милый словами, сам уехал навсегда. Сам уехал, меня бросил - и с малюткой на руках. Как я гляну на малютку - точно милый такой был. Как я гляну на малютку, то слезами я зальюсь. Через тебя, моя малютка, пойду в море утоплюсь. А тебя, мой злой мучитель, я навеки прокляну! Долго русою косою трепетала по волнам. Правой рученькой махала: «Прощай, милый мой, прощай»
Пришедши домой, пошла в сарай. Взяла листок бумаги, карандаш и несколько слов написала: «Письмо твое получила, кольцо твое потеряла. Больше мне писем не пиши. Отвечать не буду на твои письма». На этом у нас все кончилось. Но я подумала, что больше я с ним не встречусь, и кольцо справдило признак разлуки.
Пришёл Кузьма со службы по осени: - здоровый, плечистый. Лицо тоже было круглое. Нос курносый, волосы были белые. Так, как парень. А красоты у него не было. Но не то хорошо, а что кому нравится. Но Мотя Кузьму очень любила. Мотя стала весёлая, жизнерадостная, часто встречались с Кузьмой. От меня они свою любовь не скрывали. Наши избы с Кузьмой были рядом, а Мотя приходила ко мне часто. А когда чего нужно было Кузьме, то меня пошлет за нею. Все было по-хорошему.
Но пришло время - любви конец. Хотя я знала вперед, но не хотела говорить, расстраивать Мотю, портить ей настроение. Но все же я себя признаю, что я неправильно сделала против своей подруги, что раньше ей не сказала. Но не знаю, кому угодить: Кузьма тоже подкресный брат. Рядом живем: он мне все говорил, где чего услышит. У Кузьмы с Мотей стали отношения холодные. Он быт стал ухаживать за другой девушкой соседней деревни. Но это было только для отвода глаз. Кузьме посоветывала тетушка далекую невесту, верст за 15 от нашей деревни. Вот Кузьма поехал в сваты с самого утра. Я знала, но молчу до время. В обед прибегает ко мне Мотя разволнованная и спрашивает, правда ли уехал Кузьма в сваты в деревню Сомороково. Я сперва замялась, а потом - шила в мешке не утаишь, так и про сваты все равно узнает. Я решила все рассказать про Кузьму и начала ее убеждать: «Что в нем хорошего? Ломовик - и все. А табе найдется другой». Но Мотя столько плакала, что мать умирает - другая так не плачит. Так и плакала Мотя. Но слезы не помогли. Кузьма высватал себе девушку, звать ее Дашка. Такая неграмотная, очень грубая, некрасивая, только побольше Моти. Но, как говорится, чужой хлеб всегда бывает гостинец. Мотя была намного интересней - мелковидная и приятное личико, всегда с усмешкой. Только был брачек: под челюстью была увеличена железка. Ее дразнили «живластая».
Свадьбу сыграли, молодые живут. Мотя уже перетужила, ходит ко мне, так, как ходила, молодую разглядываем. Даша тоже ходит к нам, считает нас за родных: моя мать им крестная. Даша тоже одна, пока никого не знает. Скоро и Даша к нам привыкла, часто стала говорить: «Я вам буду женихов прираивать». Мы посмеемся и - «Ладно, - говорим, - присылай женихов».
Вот приезжает моего двоюродного брата Демин сын Лешка, со Смоленска. Лешкиной матери брат работал поваром в ресторане и взял к себе вот этого мальчишку Лешку в помощники - картошку чистить. Там он прожил год и заявнлся франтом в деревню, в шляпе. Настолько у него было воображения и хвасти! Я и Мотя часто его осаживали, когда он начинал хвастать. На вечеринку придёт в шляпе, в галстуке и все фыркает: все не по нем. И все к нам приючается: где сидим - и он садится около нас. Мы идем домой - и он с нами идет.
Надоел он нам как горькая редька. Стали придумывать, как его отучить от себя. Я говорю: «Мотя, погоди, я тебе расскажу, как его дразнили, когда я еще пасла коней вместе с ним. Он на меня всегда брехал что папало за то, что я его обганяла на своей Канарейке. А он на бурой Ордынке всегда оставал. Вот его и прозвал дед Захар: он как заругается - голову кверху подымет, затрясётся, глаза белые закатит под лоб. Вот дед Захар и скажи один раз на него: «Ты лупа - котовы яики!» Вот уж тут как подхватили ребята все! А я больше всех над ним сорвала охоту ругаться. Тогда он потишёл, а ему промытой воды не давали на каждом шагу: вот давай и мы скажем не в глаза, а чтобы он слыхал. Вот договорились с Мотей. Она идет с своего конца, а я иду к ней навстречу. Как раз остановилась напротив ихней избы и видим, как Алексей вышел в сени, стал за дверью и подслушивает, что мы говорим. И был намерен к нам выйти. А мы завели разговор. Мотя спрашивает: «С кем ты вчера шла домой?» А сама мне моргает: скорей говори, а то не успеешь, выйдет из-за двери! Я усмехнулась и говорю во весь голос: «С лупой, котовы яики!» И пошли к Моти. Он догоняет нас среди деревни, догоняет нас весь бледный, дрожащим голосом от зла ругает нас. Мы быть ничего не знаем. Мотя спрашивает: «Лешка, ты кого ругаешь?» Он как подхватил нас ругать: «Голодранки, чучилы деревенские!» Мы ему в ответ, чтобы больше разозлить: «Подумаешь, какой городской! Один раз вынес очистки с ресторана - и считает себя городским!» Сразу отучили - больше к нам не подходил.
Приходим к Моти, животы заболели от смеха. Никак не можем удержаться от смеха, как вспомним про Лешку. Мотина мать говорит: «Чего-либо натворили, никоянные?» Но рассказать нам нельзя было Мотиной матери: у них сидела какая-то бабка. Мы так посидели немножко, но не сидится. Мы выбежали в сени и во всю пору засмеялись. Мотина мать нас догнала и говорит: «Дурочки, чего орете, ведь сваты сидят, а вас леший разбирает!» Мы сразу осеклись. Оказывается, что Мотю пришла глядеть женихова мать. Жениха мы не знали, он только что пришёл из солдат. Мотя свахе понравилась, назавтра приехали уже с женихом. Засватали Мотю. Жених был очень тихий, среднего роста, худенький, востроносый, но приятный был. На лицо был лучше Кузьмы. Только был бобылкин сын: ничего не было, только утка и селезень. Хозяйство было, и хата стояла на курьих ножках с одним маленьким окошечком. Вот песня ей пришлась у правду, что «в трубу трублю». После Кузьминой свадьбы скоро сыграли и Мотину свадьбу.
После Рождества была очень теплая погода, пошла вода по деревни ручьями. А потом подморозило, стал везде лед. Ко двору не подойдёшь, не подъедешь на некованной лошади. Я иду из деревни от Дуни, вижу издали, что около нашего двора кувыркаются две бабки и лошадка чуть живая, одне косточки кожей обтянуты. А, видимо, уже и многа прошла, замучалась и совсем пристала. И не подкована, сразу не может стать на лед. А к нашему двору нужно взобраться под горку. Вот бабки что придумали. У них был запасной зипун из простого сукна выткан, своим рукодельем пошит, был на двух фалдах по-старинному, или на двух сборках. Вот этот зипун они подстилают кобылёнке под ноги, под обе оглобли поддерживают и просто подымают лошадку. Им было не без трудов добраться до нашего двора. Тут подхожу я, а тётенька несла воду. Я тётеньку попросила, чтобы она помогла этим труженицам. Тётка Анисья поставила ведра с водой и говорит: «На что я тебе?» Я отвечаю и указываю на этих тётенек: «Давай им помогём!» Тетка Анисья взяла лошадку под уздцы, и я взад стала помогать. Бабка взяла под оглобли, а мы живо втащили к нашим воротам. Одна бабка перекрестилась, что добрались до ворот, а другая упрашивает у тётки Анисьи: «Скажи, голубушка, а к этому дому мы подъехали?» Тётка Анисья спрашивает: «А вы зачем приехали в такое бездорожье?» Я стою рядом и слушаю. И думаю: «Наверное, к батьки моему приехали». К нему много ездили издалека заговаривать рожу: он давал пользу от рожи. А та бабка у тётки Анисьи всё расспрашивает. Говорит: «Это Ивана Кузьмича двор, сельского старосты?» - «Это», - тётка Анисья ответила и поворачивается итти к вёдрам. Бабка Анисью за рукав задержала: «Скажи, добрая голубушка, а правда у него есть дочка очень хорошая и уже невеста? А тётка Анисья на меня взглянула и засмеялась. Догадалась, что это едут к тебе глядеть или свататься. Но им было достаточно того, что я им помогла взобраться к двору. Одна меня спросила: «Красавица-доченька, ты не с этой избы?» Я ответила, что нет-нет, это изба моей подруги. Проводила их в избу, а сама догнала тётку Анисью и пошла с ней до ихнего двора. У них посидела и говорю: «Да надо, ехать в такую даль - да все напрасно». Мне их стало жаль. И больше я жалела несчастную худенькую искормленную лошадку. Когда я проводила бабок в избу к себе, я моментом сбегала во двор, схватила охапку сена и подложила бедной кобылке под морду. Она обрадовалась, даже заржала. Покамест я посидела у тётки Анисьи, потом забежала к Аришке, я ничего не сказала. А торопилась домой - надумала: так, наверное, лошадка уже скушала тот охапок сена. Побегу домой, не зайду в избу, а прямо в сарае наберу большую ношку сена, немножко положу своей кобылке, а остальное положу все сено бабкам в сани. И лошадке подложу, пусть подкрепится. А то, наверное, они ехали к нам две ночи. И теперь им придётся ехать две, а может, и больше ехать. Так и сделала: наложила им полны сани сена, а сама всё оглядуюсь, чтобы из избы никто не вышел. Все быстро сделала, что задумала, и сама побежала к Тане.
Таня была невесёлая девушка. Она немножко была старше меня и скучала, что подруги повышли замуж: Наташа, Мотя. Ко мне часто сваты ездят - я не выхожу. А к ней еще ни одного жениха не было. Вот она пала духом, что она останется в девках и будут ее называть векоухой (Векоухой - вековухой). А что векоуха, что спасовская муха такая злая бывает! Вот ей этого не хотелось прозвища. Пришла к Тани, говорю: «Таня, сбегай к нам!» Она говорит: «Зачем?» Я говорю, что к нам приехали какие-то две тетки. Наверное, к батьки - заговаривать рожу. Таня отвечает: «Ну да, к батьки! Это ж тебе Дашка Кузьмиха нараила сватов». Я засмеялась и говорю: «Ну иди ты, если хочешь замуж. А я не пойду!»
Ну, Таня собралась, пошла к нам. На пути встретила мою маму. У Тани спрашивает: «Не видела мою Грушку?» Таня сказала: «Нет, не видела». Мать начинает меня ругать: «Вот Вихорь, а не девка! Прибежала, скотине сена положила и не заходя в избу куда-то смоталась! Просто беда с ней: минуты не сидит дома». И с Танею вернулась домой. А Таня говорит: «А я к ней иду». - «Иди, иди, Танюша, посидишь у нас, может и наша Вихорь привертится домой! Уже обедать пора, да и сваты сидят - приехали. Надоели эти сваты - хош двери закрывай от них. - Да позавидовала Таниной матери. - Вот твоя мать спокойна, пока к тебе не ездят сваты, как ты одна у матери. А придёт время - и ты выйдешь. - Тане стали по душе эти слова, что «и ты выйдешь». - А у меня четыре девки, они мне всю голову вскружили. Набольшая ни так надоела. А маленькая у
меня и совсем не видна, она очень тихая девочка. А вот певица у меня Грушка, она мне больше всех надоела. Малая была - то в огород, то в сад в чужой залезет. Да дома беду натворит. Всё время по бедам! А теперь сватами надоела. Хотя бы уже вышла замуж, может быть, потишала б. Но не потступиться к ней. Нет, не быть ей доли хорошей. Вот у меня дочка средняя, помоложе Дуни, Феня - она была тихая, скромная и скоро замуж вышла. И муж хороший, несмотря, что помоложе на год за Феньки. А жалеет и живут хорошо. Свекор тоже души не чает об ней. Только, правда, свекрова очень злая, как ведьма. Не потрапит - ничего вгодит».
Эти тётки сидели, сидели так и не дождались меня. Пошли к Даши и горюют, что не видели невесты. А Кузьма не знал этого, что Даша пораила меня своим тёткам. Кузьма выругался на Дашу: «Эх, голова у тебя - луковица. Ты не знаешь эту девку, у меня спросила бы! Эта девка - жох, ее в простых рукавицах не возьмёшь, а надо ежовые рукавицы. Я бы сам её взял, и все наши ребята были вооружены за ней, чтобы не выпустить её из деревни. Да вот - пойди, возьми! Она тебя вокруг обойдет и твоим другом станет. Ей не посмеешь глупых слов сказать. Ей все мы были равные друзья и товарищи. У неё не было ухажора, как у вас с моей Мотей». Даши не понравились эти слова, что Кузьма назвал Мотю своей: «Ну, иди к своей Моте, а я поеду с тетками домой». А Кузьма смеётся: «Да вы и так не поедете, а пешком пойдёте, да на себе кобылёнку понесёте. А сообразили: к моей сестре подкрёстной приехать в сваты!» И во весь голос засмеялся. «Ещё ладно, что она вашего коня накормила, да сена ношку положила в сани. Я все видел в окно ее похождения. А то пусть бы уже сам Ванька пришёл пешком, да и полюбовался на неё. А то свахи приезжали, сваты и невесту не видали. Что вы скажете жениху?» Они молчат. Одна отвечает: «Да женихи не сватают, а матери, отцы, тётушки. Много было бы чести, если б сватали женихи!» Так говорится присказка, что «без меня меня женили. Я на мельнице был. Приезжаю я домой – поздравляют меня с женой!» Так меня сватали. А жениха я и по сей час не знаю, что из себя представляет Ванька.
Моте не повезло в замужеской жизни. Года не пожила замужем - заболел её Борис. Как сказать, с молодым мужем жили только наслаждались. Про Кузьму Мотя уже забывать стала.
Казалось, что оба они счастливы были, несмотря, что первый раз встретились друг с другом. Если бы не помешала болезнь и смерть Борису. Борис заболел тифом, не долго болел и умер в больнице. Мотя мужа похоронила, и мать Бориса с досады тут же скоро вслед за Борисом померла. Осталась Мотя к году своей свадьбы молодая вдова: горе, тоска, переживания. Мотя много изменилась, похудела. Но на лицо стала не дурна, а похорошела. Только стало что-то тошнить и сосёт под сердцем. Но это стало проходить - тошнота. Моте стало жить одной в той ветхой холупе скучно и неудобно. Ей скоро надоело одиночество. Мотю взял отец обратно к себе. Она так же жила, как и в девушках, у тех родителей. Только жизнь сама по себе складывалась не девичья, а вдовиная. А молодая вдова - победная голова, про неё все говорят, и на неё все напасти нападают. Так и на Мотю напала первая Даша, стала ревновать Кузьму.
У этих молодых тоже пошла семейная жизнь в разлад, у Кузьмы с Дашкой. Так и у других ребят, которые разом поженились, также жёны ревновали Мотей. Так Мотина жизнь пошла в таком содержании: не выходит на улицу, говорят - ходила, ни с кем не стояла, говорят - стояла. Потом Мотя плюнула на всё и ходила-гуляла на пропалую. И говорит: «Хоть гулять - говорят, хоть не гулять - говорят. Пусть говорят, лучше буду гулять!»
К Тани как раз на весеннего Николу 9 мая приехали сваты. Жених был постарше года на три Тани. У Тани этот год умерла мать, она жила у старшего брата, со снохой жили неважно. Вот Таня долго не тянула сватовства, согласилась выйти замуж. Жених ей пришёлся по манеру. Сам жених её сватал с той деревни, где была замужем Наташа. Жених был портной, и Наташа его подхвалила. По-видимому, Тани нельзя было упустить этого жениха: этого упустишь, а другого может не дождёт. В том приходе в церкви был пристольный праздник на Николу. Вот там была после обедни ярмарка: собиралась молодежь с гармошками, были качели, лавочники привозили семечки, пряники, булочки, конфеты и всякую мелочь. Мы тоже ходили на ярмарку и заходили к Наташе. Клали платки, узелки. Она нас всегда привичала как своих гостей, кормила обедом, чаем поила и советовала нам женихов. Наташа Тане и посоветовала. И мне советала жениха - лавошника: недалеко жили лавошник от Наташи. Но я рукой махнула, что мне не надо жениха, я пока одна поживу. Наташа говорит: «Ведь ты почти одна осталась из ровесниц в деревни» Я ответила: « Обо мне не горюй!» Я все думала, чтобы мне уехать в город куда-нибудь. Но в городе у нас не было никакого знакомства, негде было приютиться на один час. Вот поэтому меня все родные оговаривали. Даже не один раз меня догоняли и ворочали с дороги, отбирали узелок с одной рубашкой и с одним сарафаном, что я себе собрала переодеться. Вот поэтому мне замужеская жизнь не шла на ум. Я стремилась, чтобы мне жить в городе, одеться, получиться больше грамоти. Вот такой у меня был план в голове. Но план мой не пришёлся в жизни.
Когда мы шли с ярмарки, я очень много пела частушек, итти было вёрст восемь, время хватало. Пела под гармошку:
А гармонь моя ревёт -
Батька хлеба не даёт.
Я в гармошку закачу -
Три дня хлеба не хочу.
Гярмонь моя, матушка.
Лучше хлеба мякушка.
А гармонь моя, резуха,
Дош идет - дорога суха. (Дош - дождь)
Часть 6
За мной приглядывался парень с той деревни, откуда был Николай. Тогда парня звали богачём: у них был покуплин участок 12 десятин панской земли. Я семью его знала, даже жала них на участке. Наши деревенцы брали у этих хуторян быка большого для деревенского стада коров. И за быка, у кого была корова, должны были жать рожь на толоке у этих богачей. Но они ни так были богаты, как были скупы. Как говорилось, что в простоте богатства не наживешь. Их было два брата - Никанор и Кузьма. Никанор жил в деревне, а Кузьма жил на хуторе. Вот сын Кузьмы шёл со мной с ярмарки. И пришёл Никанор повищать нашей деревни: завтра итти к ним жать рожь. Был какой-то праздник, дома было грех жать в праздник. А толокой на чужом поле - это был не грех. Нас собралось баб, девчёнок человек 20, в том числе была и я. Обед с собой не брали, должен быть обед хозяйский. Некоторые говорят: обед, наверное, будет хороший. Наверное, и мёду дадут: у них были пчёлы. Когда шли, я говорила, что сегодня будем песню петь «Пчёлоньки», А Мотя говорит: «А ты сейчас спой, а то ее не все знают!». А эту песню пели все на толоках. Пришли к Никанору, уже большая толпа. Никанор долго не стал нас держать и сейчас повел на хутор к брату Кузьме. Немножко вышли за деревню. Я начала петь песню «Вишенку». Тут мне подмогли. Мы подходили к хутору. Отголосок раскатывался по ихнему леску:
«Вишенка, не шуми надо мной. Свекорка, не жури ж ты меня. Вишенка как шумит - так шумит. Свекорка как журит - так журит. Свекрова - да неродная мать, не даёт больше погулять: всё под той вишенкой, всё под той зелёной, с молодцым да с молоденьким».
Чуть эту закончили, я начала вторую - «Крапивушку»:
«Ты крапивушка, ты зелёная, а свекрова мать - мать неродная. Посылает мать в воскресенье жать. Ох, мне, младе, не хотелося мелких деточек оставлять одних. Ох, и я жала день до вечера. Прихожу домой - делать нечего: мелких деточек серый волк погрыз, свекровь-змея не доглядела. Ох, и я плакала день, до вечера».
Пришли на поле ко ржи. Рожь была густая, высокая. Начали жать. Жали, можно сказать, хорошо. Ржи было десятины четыре Хозяину хотелось, чтобы мы всю жали к позднему обеду. Но многие из нас замучились, ослабли, есть позахотели, в этом числе и я. И жнива шла не так споро. Стали посматривать в ту сторону, где был дом: не везет ли хозяин обед? Солнышко уже давю повернуло с обеда. Сперва смотрели слабейшие, а потом уже и все захотели обедать. Обеда все не везут. И не зовут на дом обедать. Что ж, и певица совсем онемела. А есть хочется - спасу нет. Жнеи взяли и сели отдохнуть. Хозяин это заметил, идет к нам. «Чего, бабочки, сели? Надо б жать!» А ему в ответ говорят: «Надо подкормить жней, дать пообедать». Хозяин пошёл домой: несут нам обед на поля два ведра молока, хлеба. Суп был задобрин свинным нутренным салом. Сало очень пахло старью, оно плавало поверху супа вид желтой ржавчиной. Жнеи поболтали этот суп - не стали исть. Кто не слышит запаса - те немножко похлебали. Я даже ложки не помочила. Ждала, пока очередь подойдёт - начнут молоко исть. Не помню, кто на меня сказал: «Ешь, привыкай к тухлому супу! Выйдешь замуж за Пашку - вот и будешь тухлый суп хлебать!» Я ничего на эти слова не ответила. Мне налили стакан молока. Я поела, может быть я и второй бы стакан съела, но не с чего было добавить. И думаю: вот как богачи богатства себе наживают! Кабы вы провалились сквозь землю! Доела свой кусочек хлеба и начала запевать «Пчёлоньки».
«Пчёлоньки, а вы пчёлоньки мои, а вы ярые мои. А чего вы сидите, на полёт не идёте? Аль вас ветром придуло, аль вас солнцем припекло? А вы, гостики мои, а вы милые мои, а чего вы сидите, хлеба-соли не есте? Аль мой хлебушек пушен, аль мой муж не весел? Если хлебушка пушен, то я выполаю, если муж мой невесел — правду выпытаю».
Дашка говорит: «Да есть нечего! Что ты поёшь: гостики не есте?» Некоторые ждали, что им медку пренесут. Но на этом обед закончился. Все остались недовольны обедом. Так и не дожали хозяину рожь. Я этот обед запомнила надолго.
Я немножко вернусь назад. Когда мы подошли с перекрёстка, я заметила, что этот Павел, сын богача, что-то мне хочет сказать или передать. И вот на перекрёстке дороги (им надо итти в сторону, а нам прямо) он, этот Павел, боязно ко мне подходит и молча подаёт мне что-то завёрнутое в бумажку. Я взяла, развернула и смотрю: 7 шт. конфет, леденцы в красивых блестящих синих, розовых бумажках с махорчиками. Я посмотрела на конфеты и на переходе речки бросила их в речку. Конфеты потонули, к ним подплыла маленькая рыбка. На дне лежат, как в магазине на витрине. В речке была вода светлая, прозрачная. Все видно. Девчата увидели, что я бросила, говорят на меня: «Грушка, ты ошалела! Зачем ты бросила, лучше бы нам отдала!» А ребята посмотрели - ничего не сказали, только покачали головами.
А я запела: «Богача любить - надо строго ходить. Артиста побить - надо чисто ходить. А бедного любить - справедливо будем жить». Вторая частушка: «Мне конфеты надоели, стручья надокучили, меня нонешний годочек славушка замучала».
Я конфеты исть не буду,
Стручья в руки не возьму.
Я худую эту славу
Под ногами потопчу.
С того краю по Дунаю
Ветерок холодненький.
Батька с маткой не жалеют
-Пожалей-ка, родненький.
А на горке два милёнка –
Там, наверно, твой и мой.
Твой — у розовой рубашке.
Мой, наверно, в голубой.
Коло речки шла -
Бела мылася.
Сердечко болит -
Простудилася.
А ты Коля, Николай,
Ты колечко не ломай!
Кольцо сломишь - не сольёшь.
Меня замуж не возьмёшь.
Лучше Пети нет на свете:
Уважительный такой.
Уважает - провожает:
Пойдём, душечка, со мной!
Прощай город и Смоленск,
Широкая улица.
Прощай, милая моя,
Дорогая умница.
Вышивала я платочек –
Каёмочка - краснинки.
Каёмочка - краснинки –
Своему дружку Васеньке.
Я платочек вышивала –
В уголочках цветики.
В уголочках цветики —
Своиму дружку Петиньке.
Сядем, сядем с тобой рядом,
Земляниченька моя!
Расскажи, моя милая,
А в каво ты влюблена?
Али в Васю, али в Петю,
Аль в меня ли молодца?
Незабудочку- цветочек
С неба ангел уронил.
Не забудь ты, друг мой милый,
Что мне раньше говорил.
Где я с миленьким стояла-
Снег расстаял до земли.
Где я с миленьким прощалась –
Там цветочки расцвели.
Всё б я пела, всё б я пела.
Всё б я веселилася.
Когда б прежняя любовь
Назад воротилася.
Я гуляю и гуляю —
И гулять мне хочется.
Моя прежняя любовь
Назад не воротится.
Много песен перепела -
Я ещё одну спою.
Много славы потерпела
За ошибочку свою.
К деревне мы подходили, я уже перестала петь. Я и так уже всем звенела в ушах. Пришла домой, ярмолишныю одежу сдела, поужинала и вечерком побежала к Моти, рассказать ей про ярмалок, что просватали Таню. Жениха зовут Гриша. И портной у него есть специальный. Мотя на ярмалок не ходила, в ней тошнота перешла на что-то живое: Мотя отяжелела и будет ждать сына или дочку. Я говорила: «Ты не боишься?» Она усмехнулась и отвечает: «Ой, Грушка, ты какая-то чудная! Я же не одна такая, а мы все женщины такие бываем. Погоди, вот выйдешь замуж - и узнаешь. Мне Просковья Иваниха говорила, что с её деревни собирается паринь к тебе приехать в сваты. Только не молодой, намного старше тебя, городской, всё время жил в Смоленске, в городе. Я пришла от Моти домой, переночевала, всё была спокойна.
Но недолго тянулся этот разговор. Назавтра под вечер заявляется этот парень со своим отцом. Его отец и мой отец были какие-то далёкие сродственники. А мы были ещё на работе подчищали луга после половодья. Это было после Пасхи. Я пришла домой, уже на улице знали, что сваты сидят. Я вошла в избу, поздоровалась с рукой: «Здравствуйте, дядя Андрей!» И второй был похож на дядю Андрея, не моложой, очень чисто одет по-городскому, лицо было чистое. Усы были закручены как у казака, одним словом, что на вид ничего плохого не было, сколько я могла на этот раз разглядеть его. Как говорилась пословица: «Напогляд - виноград, а на вкус - так редька».
А у меня получится горчей редьки, с этим виноградом! Дядюшка Андрей тут прямо и говорит: «Вот, Яков, тебе невеста! Как игрушкой будем любоваться ею! Поближе породнимся, а то уже мы далёкая родня стали». У меня отец и мать спрашивают: «Ну как, дочка, пойдёшь? Уж этого жениха мы по природе знаем. Природа хорошая, и жених будет хороший! Ни докуда будешь людьми мудравать, жених уже опытный, немолодой, степенный. Так что будете жить, как золото важить!» Я ответила: «Раз хороший жених, идите сами за него, раз он вам нравится!» А сама вышла на улицу. На улице меня встретила Просковья, что из ихней деревни. Тоже подхвалит жениха, что хороший парень. Я на Просковью говорю: «Ты ж бы вышла за него, раз он хороший!» - «Он меня не сватал, как же я пойду? Ну, ладно, Грушка и почему ты не вышла за моего Ивана? Он же тебя сватал?» Я ответила, что я ни за кого не пойду замуж. Просковья смеётся: «Что, у векши обриклась? Не пойдешь - так повезут!» А Иван этот был один сын у отца с матерью. Жили в достатках, старики на всё были жадные. Ивана мать никогда не обедала за столом, а всё на ходу. Кусок хлеба в руку, идёт в поле жать, пожуёт - вот и обед пообедала. Когда призвали Ивана на военную службу, ему испортили уши, чтобы не итти в службу. У него стало все время течь из ушей, и он оглох, стал глухой. Это был у него недостаток здоровья. Я знала, что он глухой, поэтому не пошла за него, несмотря на то, что он один сын и богатый.
Когда я пришла с улицы в избу, по всему видно было, что мои родители со сватами договорились отдать меня замуж. «Мы её уговорим, а то и с угрозами попробуем уговаривать, раз сопротивляется!» Так всё и пришлось. Сколько ни боролась, но пришлось сдаться в плен. На второй день уже дядя Андрей приехал со всей семьёй к нам на запаины: брат, сестра, мать и дядя с женихом - полна застолица народу. Я плачу. Как говорят, когда попадёт рыбка в сети, она бьётся со всех сил вырваться на волю. Вот на такую рыбку была похожа я. Была б моя воля, я бы всю эту застолицу вышвырнула вон за двери. Но слёзы, истерика мне не помогли. Один только свояк - Фенин муж, он как чувствовал мою несчастную судьбу в женитьбе и говорит: «Напрасно так неволите Грушу, толку с этого будет чуть! Хорошо, если жизнь пойдет по-хорошему, а то будет век обижаться на родителей!» А сестра Фенька отвечает: «Поплачет, да такая будет, нигде не денется!» А я от зла не знаю, что сестре ответить на словах. Ничего не ответила, а в мыслях пожелала сестре: «Дай бог, чоб твоя дочка пережила, что я переживаю в этот час». И с этого часу я действительно стала тяжко переживать. С женихом я ни одного словечка не сказала. Как был обряд - все встали перед иконой, помолились богу, налили стаканы водкой, стали меня пропивать. Заставляли меня подарки подносить, но я отказалась, за меня подносила подарки сестра Феня. А подарки - свекрови на кофту, свёкру на штаны, деверю - полотенца, заловке - тоже полотенца. Страшно как бушевала у меня кипющая волна зла на родителей. А на жениха сильное отвращение: я не могла видеть и слышать его голос. Мне было б легче и приятней слышать рокот льва и тигра, бросающегося на меня.
После пропоин вся эта брашка уехала. Я легла спать, но сон меня не брал. Я закрывала глаза, шипко сопела, призывала к себе сон. Но сон ко мне не шёл, а шли думы и мысли. Не справлялись переворачиваться в моей голове. Что делать как быть, и как выйти из этого омута? На утро является жених: итти рассписываться у них. Мои родные его ластят, чистят, а я, грешная дело, думаю: вот как выпить стакан водки, чтоб захлебнуться, а закуской чтоб подавиться! Я ни пить, ни есть ничего не взяла, а младшей сестрёнке сказала: «Знаешь, Нюра, как мне тяжело переживать! Лучше провалиться сквозь землю, или утопиться!» Сестрёнка побежала от меня прямо к матери и сказала матери мои слова. Мать заругалась с отцом, что девка сделает над собой покушение. «Через тебя, пёс!» А моему отцу легче дать своё горло перерезать, чем сменить слова или отступить от дела. Сколько не канителилась я - всё равно пошли расписываться. Идём - он по одной стороне дороги, я - по другой стороне дороги. Разговоров никаких не было. Идём, как немые. Туда так шли и оттуда, словечком не обмолвились.
Назначили день свадьбы моей. Я вступила как в тень или в чехотку. Еле стала ходить, аппетит пропал, бессонные ночи. А песенки далеко ушли от меня.
Когда начиналась свадьба, позвали сперва всю деревню на каравай. «Каравай» называлась большая круглая булка, украшенная шишками - кренделями из теста. Потом втыкают сучок, украшенный разными бумажками. Вот этот каравай ставят на стол. Садятся вокруг стола. Сваха угощает караваинных гостей. Караваиницы начинают петь песни:
«Стояла берёза сорок лет, рубите её под загнет, пеките на ней каравай. Наш каравай красен был, чтоб наш женишок весел был. Красив каравай шишками, весел женишок с дружками, всё с молодыми свашками. А где мы станем, заиграем, а где мы сядем, запоём!» Называется невеста по имени и жених.
Но мне было противно жениха назвать по имени. Вторая песня: «Оттрубили трубушки рано по зари, а плакала девушка да по русой косе. Коса моя косынька, коса русая. Не день тебя, косынька, косу чесала. Неделю, косынька, я тебя оплетала. Шёлковые вплётуши уплётовала, голубые ленточки увязывала. Приехал жених нежалостливый, понавёз он свашечек немилостливых. Стали мою косыньку и рвать и трепать, шёлковые плетушки выплетать, голубые ленточки вывязывати». Третья песня:
«Цвела, цвела липушка жёлтыми цветами. Ох, да раным-рано, отцвивши, липушка стала осыпаться. Ох, да раным-рано, стала осыпаться. Невестина матушка всю ночку не спала. Ох, да раным-рано, всю ночку не спала. Всю ночку не спавши речи говорила. Ох, да раным-рано, речи гово411рила. Теперь мои горенки неметёны будут. Ох, да раным-рано, неметены будут. Теперь мои столики незастланы будут. Ох, да раным-рано, незастланы будут. Теперь мои гостики невгощаны будут. Ох, да раным-рано, невгощаны будут».
Каравай кончился, начался девишник. Девушки собрались, посадили меня на скамеечку. И первая подневестница начинает расплетать мне косу и чесать голову. А я плачу просто навзрыд, криком кричу. Молодухи ко мне подошли и говорят: «Что ты делаешь, разве так невесты плачут? Это только так плачут, кто идёт под расстрел!» Я ответила сквозь зубы: «Такое насилие - хуже расстрела!» Думаю, буду плакать до тех пор, покамест стану неживой, а убежать мне нельзя было из дому: за мной следили, чтоб я что не сделала над собой. Девушки продолжают своё дело, начинают чесать мне косу и начинают петь песню: «Как у нашего соседа починалася беседа, все невестины веселья. Невеста по двору ходила, белы рученьки ломала, крупны слёзыньки ронила, она девочек просила: «Девочки, мои подружки, возьмите меня под ручки, ведите меня в светлицу, чешите вы мне косицу! Потихошеньку вы чешите, с косы волосы не рвите. А мой же волос он - давих, моему батюшке он дорог, моей матушке дорожей». Еще пели: «Плакала невеста три вечера: первый вечер по косе, а второй вечер по красе, а третий вечер, что жених мал: ни в люльке его колыхать, ни в пелёночки спавивать. В люльку положишь - оторвётся, в пелёнки спавьешь смеётся, на ручки возьмёшь - дерётся».
Девишник кончился, начинается рада (Рада – особый ритуал на смоленской свадьбе) : «Благослови, мати, нам раду запети, веселья (Веселье – свадьба. (смол.)) заиграти (имя невесты вспоминается). А спася мой, спася, ты был при том часи, как мати дочку родила, месикам обрародила, зарёю подперизала, доброй долей наделяла».
Молодых 5 залезут на столбик. Наверное, что около русской печи стоит почти у каждого столбик. Вот к этому столбику залезают молодухи и поют:
«Рада, боже, что перелетела, через ту родину материну. Тогда моё сердечко радовалось, как моя детитка нарождалась. Теперь моё сердечко ноит, как моё дитятка воит. Теперь моё сердечко как у тын пошло, как моё дитятко за стол село».
Я пошла к соседу, легла в подушку. Подушка стала мокра от слёз. Я ушла, чтоб не слыхать мне ни музыки, ни несен. И разговор по народу шёл про жениха, что она не вживёт с таким старым. Он, говорят, что на 15 лет старше за неё, а в самом деле он был на 21 год старше за меня.
Под утро я немножко стихла плакать и слышу: говорят, что долго нет жениха. Мне как-то вздохнулось легче. Если бы дал бог - что худое над ним случилось, чтобы не приехал. И тут же слышу - народ орет: «Едут, едут!» И слышен звонок на первой лошади. Останавливаются около нашего двора. Меня обратно обдало огнём и жаром: пришли за мной. Первая подневестница и сестра Дуня, с которой я всё детство прожила в ссоре и драки, она очень плакала по мне: у неё тоже судьба была неверная. Она жила-горевала. Фенька сестра не обращала никакого внимания.
У неё был муж хороший, жили они дружно, муж её нежил во всём. Она горя не сознавала. Ведут меня, как пленницу, сводят с женихом. Когда он взял мою руку своей рукой, меня всю охватило холодом. Несмотря, что ночь была июньская, тёплая, но мне она была - как штурм на Ледовитом океане. Я весь язык посекла от холода во рту. Интересно было б посмотреть моё лицо в зеркало! Я чувствовала, оно было загробным. А тут свахи запели песню: «А свился, свился хмель с овсом - случился, случился зять со стем (Тетем - тестем), а выше, выше хмель за вса (За вса - овса). А выше выше зять за стя».
Садятся гости за стол невестины и жениховы. За обедом женихов дружка отдал конфеты девчатам за косу. Обед кончился, собираются под венец. Меня отец и мать благословили иконой и хлебом-солью. Стала с отцом прощаться - и упала без чувств на пол. Меня подняли, обмыли холодной водой, я посидела, как угорелая голова болела, я не хотела жить на белом свете. Я отошла в такой мир безлюдный, далеко, далеко. Когда я стала приходить в себя, слышу публика волнуется, что кому на разум взошло говорят. Говорят, и болей говорят, что не будет она с ним жить. В этом слове я как будто имела какую-то поддержку, что не буду жить.
Да поехали под венец. Я выглядела совсем больная: белой бледностей покрылось лицо, на сердце лежал у меня тяжёлый камень, голос у меня был дрожащий. Теперь, думаю, скажу священнику, что я не согласна венчаться с этим человеком. Несмотря, что было четыре поручителя: два с моей стороны, два с жениховой стороны.
Ну, пошли становиться на подножник. Священник стал читать нам молитву. И рядом со мной вторая невеста стояла с женихом. Те по виду были жених и невеста: счастливы были, жизнерадостные, весёлые. А я была - как с гроба поднята и поставлена на подножник. Даже со стороны на меня говорили свадебники, что я скоро умру как чехоточная.
Прочитав нам молитву, священник стал нам надевать венцы на голову и надевать кольца. Священник спрашивает у жениха: «Согласен?» Он ответил: «Согласен!» У меня шопотом говорит язык и губы, что не согласна. Дошла до меня очередь, священник спросил: «Согласна?» Я тихим голосом сказала, что не согласна с ним венчаться. Священник вторично переспросил у меня, я ответила: «Не согласна!» И, думаю эту минуту, если не обвенчают - то прямо пойду куда глаза глядят, а домой не пойду. Молчание священника нарушилось. Священник стал настаивать. Что грешно не послушаться отца и быть самовольницей? Тут опять стала тревога. Поручители взбесились, говорят: «Венчай, не слушай её капризов!»
Обвенчали, идём из церкви. Свахи ещё на паперти запели песню «Солгали попу, солгали, брата с сестрою свенчали».
Садимся на дружкову лошадь. Поехали к жениху из под венца. Сидели на лошади - жених, я и подневестница с иконой, с моим благословением. Как мы сидели на телеге, удивили всю свадебную публику и женихову родню, которые вышли нас встречать. Жених нагнулся в одну сторону, а я - в другую. Между нами большое пространство. Некоторые говорили: «Мы никогда не видали, чтобы так недружно сидели молодые, ехавшие из-под венца!» Встретили нас свёкор с иконой, свекровь с хлебом - солью. Старшая невестка, надевши наизнанку шубу шерстью кверху, в фартук набрала овса, вокруг нашей лошади оббежала три раза и опсыпала молодых овсом. За ней вслед дружка бежал с кнутом, и оба бегали вприпрыжку: как нагонит дружка невестку, стегнёт по шубе - с шубы только пыль столбом. Конечно, свадебники все смеются. А для чего это обсевали, я и сейчас не знаю, какая это была примета.
Мы слезли с телеги, поклонились, поцеловали икону, свёкра и свекрову. Пошли в избу. Изба была маленькая, народу было полно. Пролезть было к столу очень тесно. Но сели за стол, подали угощение, выпивают, закусывают. Зашумело во всех в голове. У одной у меня было в горле горько и в душе горчей полыни.
Женихова родня меня угощают, начинают со мной разговаривать. От жениха я не слыхала никакого разговора. Он сам себя уверял, что я поплачу, покамест перевенчаюсь, а потом успокоится: она ведь венчанная, никуда не денется, будет жить. Он был такого расположения духа. Поэтому он не уговаривал и не ласкал меня. Для меня он ещё хуже спротивел своею грубостью. Обед кончился, пошла музыка, танцы, а я стала в уголок избы и стою, как глупачка, одна. Вижу, жениховы сестры и мать заставляют его подойти ко мне. Он чего-то им ответил и машет на меня рукой, чтобы я к нему подошла. Я не сразу к нему подошла, а меня толкнула к нему сестра Фенька: что, мол, не видишь, что тебя зовут? Я подошла. Он не спеша сказал: «Сударыня, пойди в горенку и возьми в кармане в костюме мой портсигар!» И предупредил, чтобы во второй карман не лазить. Я ходов ещё у них не знала: где их чулан. Меня проводила младшая заловка в чулан. Там стояла койка, на койке ничего не было. На стенке висел костюм. Наверное, койка ждала невестиной постели. Я приспокойно залезла в тот карман, в который мне не приказано, а потом в этот, в котором был портсигар. Я взяла портсигар и взяла коробочку с пилюлями и пузырёк с каплями. Я прочитала на имя жениха: принимать три раза по одной пилюле в день, капельки тоже по 15 капель три раза в день. Пилюли были чёрные, жёлтой мукой пересыпаны. Я несу и чувствую в сердце, что как будто должен быть взрыв снаряда. Принесла, подаю портсигар и эти лекарства. И говорю: «Что ты, больной, что принимаешь лекарства?» Он глаза поставил столбом, и весь побагровел, аж его залихорадило. Как на меня крикнет: «У, гадюка негодная, кто тебе велел лазить по всем карманам без спроса?»
А я почувствовала какую-то опору в этом лекарстве. Не признаётся, чем болеет, чехоткой или другими болезнями, я жить с ним не стану. И убейте, застрелите на месте, всё равно жить не буду.
Тут сделался такой переполох! Все навеселе от вина. Моя родня за меня говорят: если не признается, чем больной, то не оставайся здесь, поедем домой с нами. У меня от радости чуть сердце не выпригнет из груди, что сейчас сяду на телегу со своими, уеду домой, а потом куда придётся.
Но мысли мои не сбылись. Я сажусь на телегу к своему свояку, к Дунину мужу. А тут пустились в драку за меня наши. А у жениха родни было больше, сильней: три шурина, два брата. Они подошли ко мне сняти меня с телеги, как ребёнка, и понесли меня в избу, посадили меня на лавку, как куклу. А я в самом деле стала как кукла: высохла, на былинку стала похожа. Сижу, как в плену. Обступила меня женихова родня, уговаривают. А жених не подошёл ко мне. Подвенечники мои уехали домой и запели песню: «А у нашего свата посеред двора яма напьёмся мы пьяно. А у нашего свата посеред двора лужа - напьемся мы дужа».
Потом запели: «Барашечка наш чёрненький, на тебе шёрсточка корчится, нам горелочки хочется. Мы барашечку стричь будем, мы горелочку пить будем. Мы барашечку обстрыгём, мы горелочку всю попьём». Потом еще запели: «А сватушка наш домовой, неси берестень медовой, мы твой берестень не съедим, только в донушко поглядим». И последнюю мели песню, уже чуть было слышно.
Уже стали отъезжать от двора, подъезжают к лесу. Ну, сперва было болотце, только был слышен отголосок по лесу. И всё дальше едут: голос утихает. И как будто этот отголосок уносит всю мою девичью жизнь, за далёкие океаны и в загробную жизнь. Вот песню поют: «Поедем, гости, до дому, поели кони солому, а всю яровую прямую, и всю яшну с машною»...
Должны приехать гости: мой отец, мать, свахи мне привезут постель, полотенца, скатерти. И как привезут, так моя сваха должна застлать мои скатерти на стол, завесить полотенца на иконы. На крюки завесить рушники - руки вытирать. Вот той деревни бабы, девки разглядывают: что хвалят, что судят. А моим родителям уже известно, что я чуть не убежала домой.
А жених сидит насупившись, ещё не успокоился, как индюк. Лицо стало красными пятнами и ни с кем слова не говорит.
А отец жениха очень был ласковый старик. Он очень был доволен, что со мной сыграли свадьбу. Вот свёкор сел около меня и стал меня уговаривать: «Доченька, милая, ты успокойся, не волнуйся. Даст господь, у нас переночуешь и всё хорошо станет. Это все так скучают. И я своих дочек отдавал - так скучали. А теперь привыкли, смотришь - и хорошо живут. Вот и ты так будешь жить у нас». Я сижу, слушаю свёкра внушения, а в душе и мыслях думаю: с кем же я буду у вас жить? С извергом я жить не стану. Я сегодня всё равно уйду, или завтра, но всё равно уйду. Это я молча в мыслях продумала, а в самом деле я молчала, на свёкра речи я ничего не ответила.
Слышу: приехали мои гости. Свекор ушёл принимать гостей, а я так и осталась сидеть на лавке одна.
Привезли мне постель. Я опять думаю: зачем мне постель привезли? Отец и мать на меня посмотрели, ничего мне не сказали и не подошли ко мне, но в лице оба сменились. Когда посадили их за стол, это были не гости, а похороны. Отец как сел, голову повесил, глаза опустил. А мать все время плакала.
Не взяли ни пить, ни закусывать. Зять, Дунин муж, тоже сидел, голову опустил, только смотрит на меня. Я как сидела на лавке, так и осталась сидеть, не слезала никуда.
Гости уехали скучные домой. Постель всё же оставили: две подушки, два одеяла, две простыни. Я хотела сказать: «Напрасно оставляете, везите назад постель». Но не сказала ничего. Я все продолжала сидеть на лавке, у меня слово речи отнялось. Я за жалостью не могла говорить.
Уехали все мои гости, я осталась совсем одинокая меж жениховой родней, как чужая.
Настала ночь, ложатся все спать, кто на полу, кто на полатях, жених пошёл в чулан спать, а я сижу на лавке. Подошёл свекор и говорит: «Доченька, иди спать на свое место, ложись!» Я ответила: «Мое место, где сижу!» Свекровь была гордая, не подошла ко мне ни одного раза и ничего мне не сказала - так, как жених.
А свекор пошёл в чулан к жениху. Что говорили, я ничего не слыхала. Всю ночь свекор не спал, ходил, как часовой. Я сидела до утра на лавке. И какие адские чувства я переживала в эту ночь, не опишешь! Я плакала, вздыхала, проклинала свою судьбу, какую мне моя мать нарекла.
Утро пришло. Я вышла, освежилась свежим воздухом июньского утра, умылась, вытерлась полотенцем. Но к зеркалу не подошла: я знала, что у меня вид очень будет страшный. Я так, без зеркала причесалась. Дальше не знаю, что делать, где стать или сесть. Мне кажется, что я всем мешаю.
Младший брат жениха позвал меня к себе, подошёл и говорит: «Пойдем, Груша, на улицу, посидим на бревнышке, покамест завтрак приготовят, поразговариваем».
Младший брат Жорж учился со мной ту зиму в школе. Не раз дрались: то он мне налупит, то я ему снежками насажу в горб. Он чувствовал в своей душе мою тревогу. Еще мы вспоминали школьную жизнь, тоже старую рану моему сердцу открыли. Жорж как раз закончил курсы на землемера и был назначен на работу. Мы были с ним с одного года. Он должен был скоро уехать на свою работу. Говорит: «Да, Груша, если б ты училась, ты уж тоже была б землемером или инженером. У тебя был талант и способность на учебу. Вот теперь бы мы с тобой уехали, и всему разговору был бы конец. Обдумай быстро, Груша, дай согласие. Я тебя увезу даже завтра, и всему наговору будет конец, как ключ в воду - и мы будем счастливы». У меня прошла дрожь по телу. «А здесь ты завянешь, как краска, и ты нашему Якову не пара. Он уже весь свой молодой интерес прожил!» Я спросила: «Жорж, скажи чем ваш Яков больной? Я все равно жить у вас не стану! Я уйду не сегодня, так завтра». Жорж ответил: «И лучше сделаешь, чем поскорей уйдешь. Про болезнь не знаю и нечего не скажу, а причину его холодного отношения к тебе я знаю и могу тебе сказать: у него была жена и две дочки, я сам к ним заезжал не раз и знал его жизни картину. А это время я про него ничего не знаю, что с ним случилось. Где его семья, я тебе, Груша, не скажу, не знаю. Что знал, то я сказал». Правду сказал Жорж или нет? Ведь как говорят, что душа грудью накрыта.
Может, мы больше поговорили б, но нас позвали завтракать. В голове у меня остались неразрешенные мысли, как поступить с поездкой. Меня ошибал страх: если я соглашусь ехать, Жорж, может, меня тоже только отвезет дальше - или в тайге, или среди дороги бросит. Так и не здалась на поездку с Жоржем: он грамотный, а я темная, неграмотная, ему тоже не пара. Не рискнула поехать, а рискну из ихнего дома уйти - и все.
Завтрак был печальный. Сели за стол и почти не разговаривали. Хотя и выпили мужики, но молча, сопя закусывали. Видно было, что я печаль навела на всех. А молодой тоже за эту ночь постарел на десять лет, стал обрюзлой, черной: как месяц лежал в постели. А слов от него никаких никому не было. Он сидел, как окаменелый и переживал. Может, старое и новое - все вместе пришлось переживать.
И вот последняя попытка была: отец, мать, брат Жорж и женатый брат, шурьяки обступили его и давай уговаривать, чтобы Яков признался во всей своей тайне ко мне. «А иначе потеряешь жизнь с молодой невестой», - сказал ему брат Жорж. Он все же знал мое мнение, и как меня еще нельзя назвать его женой. Яков злом всем ответил: «Никуда она не денется, повертится - да на этом месте останется. Ведь она венчаная, а батька ее назад не примет, я хорошо знаю. У нее батька строгий». А свекор говорит: «Вот возьми ее, угощай, приласкай. Сел бы ты с ней рядышком - и глядеть было б красиво, и всем было б хорошо! А то не знаю, что у вас получится». А я сидела на скамейке между Жоржем и заловкой. Жених ответил: хлеб на столе, руки у нее свои. Пусть берет и кушает сколько угодно. Я что, жевать ей буду?» Вот я и получила ласку и угощения от жениха.
Вылезли из-за стола. Я поблагодарила за завтрак, но у меня крошка во рту не была. Увязала свое венчальное платье в платочек и вышла за дверь, потом во двор - и последняя была калиточка со двора на огород. Я быстренько выбежала на огород, оглянулась: за огородом рядышком были лозовые кусты, и тут же начиналось болотце. А потом - темный большой лес, до самого нашего родного поля. Я еще кругом оглянулась, прислушалась, не идет ли кто со двора. Не слышно. Все тихо.
Я вприпрыжку несколько раз прыгнула легче птички и спряталась за первые кусты лозы. Эта лоза - первый был мой покровитель. Я остановилась, назад поглядела: бежит кто за мной? Нет никого. Я дальше пробежала в болота. На пути мне попала вода до колен и топкая грязь выше колен. Я стала вязнуть в грязи, хвататься за кусты и ломать ветки себе под ноги, чтобы не топили ноги. Но это путешествие мне не страшно было: вода была теплая и грязь. Когда я вошла дальше в болото, на эту минуту я себя чувствовала одинокой и эти часы - свободной. Надо мной нет хозяев. Я вырвалась из плена. Мне было весело слушать пение птичек. Я села отдохнуть на березовый сук и наблюдаю за птичками, как они порхают с куста на куст. Птички никем независимы, им весело.
Неподалеку в кусту было гнездышко с птеньчиками, как птичка носила детенышам мошечек, червячков. Вот и я полностью отошла в птичий мир. Мне стало светло на душе, и я хотела запеть «Бродягу»: «Бродяга, судьбу проклиная, тащится с сумой на плечах». Я вспомнила, что же меня впереди ожидает? Меня обдало жаром, несмотря, что я сидела вся мокрая и в лесной болотной тине. Болото я почти перебралась. Дело шло к обеду, а впереди нужно было перебежать чистую поляну - четверть версты. Вот тут я боялась, как мне перебежать. Как ни боялась, а бежать надо. Вышла из болота вся грязная, мокрая. Узелок с венчальным платьем тоже весь перегрязнила. Также огляделась вокруг, прислушалась, не гонится ли погоня за мной? А был уже самый обед. С поля пошли обедать домой. Я, что есть силы у меня, побежала через поляну. Убегаю в темный лес, мне просто дух перехватило. Немножко пробежала. В самый час, слава богу. Теперь я скроюсь до ночи в лесу.
Когда я девчонкой ходила за грибами в этот лес, я очень боялась волков. Лес был страшный, в нем водились волки, лисицы. Сегодняшний день мне этот страшный лес был как парк или сад. Если бы повстречался со мной волк, он был бы мне другом. Я теперь никого не боялась зверей. Только самый и страшный зверь - вот этот жених был для меня.
Я немножко посидела, вздохнула. Во рту все пересохло, хочется попить и поесть. Я собрала лесового квасела, пожевала, он кисленький на вкус. Потом выбрала листочки повыше, наломала еловых веток, постелила, узелок положила под голову с венчальным платьем - и легла уснула, как говорят, богатырским сном.
Когда я проснулась, в лесу стало темно. Я не сразу опомнилась, где я и что со мной случилось. Потом все сразу вернулось в голову. Я вылезла из трущобы, вышла на край леса к своему полю. Солнышко уже садилось за горизонт: ночь должна быть теплая. Родные поля, где я пахала, бороновала - все было видно. Но уже находил сумерок. Я немного подождала, пока совсем стемнеет. Все покрылось темной мглой, чего я ожидала.
Полем я шла тихо, когда вышла на дорогу - пошла быстрей. Стала думать: куда зайти переночевать? К батьки не пойду: он не пустит - и может, придут в розыски за мной. Я зашла к Аришке. Уже было совсем темно, все спали. Постучалась тхонько. Недолго стучалась, Аришка узнала меня по голосу, тихонько открыла дверь. Я быстренько вошла в избу, обхватили друг дружку за шею, наплакались уволю по своему горю. И мне казалось, что я теперь несчастней Аришки: у Аришки хотя свой угол есть. Мне - переночевать негде. Аришка меня никуда не пустила, мы в потьмах повечеряли. Я за две недели своей свадьбы вот только поела в этот вечер с Аришкой. Легли спать. Уже было поздно, и к ней никто из соседей не приходил. И Аришка никому не сказала, что я у нее ночевала.
Наутро Аришка пошла за водой. А за водой ходили в наш край. И по всей деревне прошло известие, что Грушка сбежала и неизвестно где. Нет ни у батьки, ни у сестры Дуни. Неизвестно, где она девалась. Вот Аришка Принесла воду и мне такую новость. Вот только, говорит, жаль матери твоей. Говорили бабы, что она все утро выла, голосила и причитывала. Напела: «Мое дититко не веселилась, моя доченька! Сами девочку угнали в петлю!» И все кладет вину на отца.
Тут навещать пришёл Яков, молодой зять, что Грушка ушла и никто не видал куда ушла. Мать бросилась на молодого зятя ругаться: «Ты злодей! Нашей дочки, с таким норовом, не надо тебе было жениться! Один жил бы, как палка! А взял ещё такую игрушку молоденькую, ей еще нет 18 лет. А ты ей дядя, тебе уже 40 лет. Как тебе не стыдно, мидюлян! Ты пришёл чем хорошим хвалиться?» И хотела пустить в него ухватом. Но соседка выхватила у матери ухват. На эту суету пришла Аришка и все слышит и видит, как мать воюет с молодым зятем. Аришка отозвала мать, вышли за дверь, во двор и рассказала, что «Не плачь, не волнуйся, Пелагея Дмитриевна, никому не говори: Грушка у меня ночевала, жива, ничем не вредима и сейчас находится у меня. Я никого не пускаю в избу, пусть она немножко отдохнет и успокоится». Мать моя не верит: обхватила Аришку за шею, благодарит ее за меня.
Вечером все легли спать, моей матери не спится. Она поздно вечером пришла к Аришке, постучала. Я сперва испугалась, как первый стук услыхала, и тут услыхала голос матери. Когда переступила мать в избу, я сильно заплакала. А мать больше меня стала плакать. Глядя на нас, Аришка заплакала. Все мы трое поплакали сильно.
Мать сильно обрадовалась, стала звать меня домой. Но я боялась отца, что меня прогонит туда жить. Я жила неделю у Аришки, а потом перешла к сестре Дуне. И ее муж Осип Тихонович, они меня любили и жалели. У них живши, я стала немножко успокаиваться.
Но хлопоты мне впереди предстояли большие. Я стала поговоривать зятю, как бы хлопотать развод, чтобы я не стояла на нелюбимой фамилии, мне все того Якова стало противно. Но зять меня не торопил, говорит: «Успеешь, возьмёшь развод. Молодец, что сумела уйти. А развод возьмёшь!» Но мне было это радостно, что хотя словами меня поддерживал.
Осип Тихонович работал в лесничестве, к нему очень много приезжало народу. Не без греха привозили ему самогоночку, часто были весёлые застолицы. После выпивки пели песни, часто и меня приглашали. Изредко я тоже сидела за столом и выпивала самогонку по целому чайному стакану. Меня приглашали песни петь: конечно, по рекомендации зятя, что я умею много песен и хорошо пою. Но песни мне не шли на разум. Я потеряла голос: хотя и запою - но голос дрожал, и был какой-то жалкий. Так что я только могла подвести своего зятя: перед людьми было бы неловко, что хваленая певица, а поет никуда не годится! То я отказывалась от песен. Выпивши, у быть немножко рассеиваешь свои мысли. А начнешь петь - тут заплачешь.
После слез выходила во двор. Особенно проводила я долго время ночью, когда были лунные ночи. Лунные ночи - это была у меня вся отрада и развлечения. В одиночестве я все обдумывала, что делать, и взирала свой взор на луну, как луна была моим собеседником. И по сейчас я люблю луну и лунные ночи.
А новый зять все ходил почти каждый день - все уговаривал моих родителей, чтобы они меня уговорили, чтобы я вернулась к нему жить. Он будет меня ласкать, жалеть, дает такое обещание: «Я ведь это в мыслях не держал, что оно так сделается! Мы ведь венчанные!» Вот он ходил больше месяца, уговаривал моих родителей, и узнавал, где я живу.
Старикам моим он надоел, все одно и то же гонять каждый день. Отец взял - зятя выгнал и больше приказал не ходить к нам. Ему не имется. Он пошёл от моих стариков прямо к моей сестре Феньки. Там грозил, что я вас подожгу, если будете принимать Грушку. А жили они на хуторе и жили сыто, всего хватало. Вот сестра Фенька и запугалась. А мужа Фенькина не было дома. Если бы был дома мой свояк Филипп Захарович, он бы ему наполил столько, сколько влезло, и неси на здоровье! Дуне он тоже грозил, но Дуня жила в нашей деревне, и ответила ему: «Если сожжешь нас, мой не один двор сгорит, а вся деревня. То придут к тебе мальчики в дом, возьмут и бросят тебя, подлеца, прямо в огонь. Туда тебе и дорога, такому дураку, балде.»
Отец сразу на меня обозлился, что я его опозорила, и всю свою природу, и всех сродственников моих. Тогда еще редко были такие случаи, какой сделала я. Это считали за большой позор. Но как отец с матерью ни спорили, но маленькая сестренка переспорила отца, чтобы я перешла к ним от сестры Дуни. Вот я перешла жить обратно к матери и отцу в свою родную семью. Но за этот перевод жизни я стала совсем другая. Я уже была как отравленная от всей жизни. Мне была не мила жизнь на белом свете. Меня окружила забота, как мне снять с себя этот хомут, который мне одели насильно на шею. У меня с головы не выходило, как взять развод. Первому взять - придётся судебные здержки платить. Средств у меня никаких не было.
Отец отказался мне помочь в средствах, а нужно было 755 руб. Тогда ходили деньги керенские.
Я решила пойти к сестре Феньке, она жила в достатках. Думала, может, сколько - нибудь поможет мне. Хотя за то, что я ей много помогала в работе: шила, кроила, в полевых работах помогала пахать, косить, возить, когда у нее были маленькие дети — и частые. Их было четверо: было две девочки и два мальчика. Ей было тяжело с ними справляться.
Меня мать каждую неделю посылала к ней с узлом намытых рубашек и штанов для ее семьи. Вот когда я приносила такие узлы, меня, правда, принимала сестра и зять хорошо. К ним ходила всегда молодежь, у них были вечеринки. Но когда я приходила, то было больше веселья. У них еще не танцевали кадрили, а я уже умела и учила ту молодежь танцевать кадриль. Вот меня все встречали как руководителя.
Вот и теперь я шла к ним, только без узла. И не та я Груша. Вот я прихожу на их хутор, выхожу из леска, вижу: свояк косит, а дети разваливают покосы. Я подошла, поздоровалась с свояком, взяла косу из рук зятя. Коса мне показалась очень легкой. И говорю: «Вот мой отец делает косу всегда тяжёлой, а у тебя - ишь какая лёгенькая, ловкая!» Махнула вокруг себя, коса как змейка вонзилась в траву, и пошла, пошла мах до конца. А зять Филипп Захарович стоял и смотрел мне в зад и говорит: «Эх, судьба! За что пропадает такая девушка!» Я подошла к нему, положила косу на покос. Сел Филипп Захарович и стал распрашивать, какие у меня дела. Я говорю: «Какие дела? Думаю подавать на развод. Попрошу Дунина мужа написать мне заявление и подать на развод. Только у меня нет денег на издержки, вот я пришла попросить, не одолжите ли вы мне сколько денег? Вот я Принесла свое венчальное платье вам. Пусть Фенька перешьет девочкам на платьицы!» Филипп Захарович ничего не ответил на мои слова. Только скотились у него слезы из глаз. Он вытер слезы и стал расстёгивать гимнастерку. Вынул из кармана 100 руб. и подал мне и говорит: «Пойдём обедать в избу, там у Феньки возьму, надо помочь твоему горю». Зять был желанный для меня и вообще был человек простой для всех. Мы сидим, разговариваем. Идет сестра из дома, подошла, поздоровалась со мной нежеланно. И прямо говорит на зятя: «Ты что сидишь с ней? Люди увидят, что она у нас, докажут Якову, он нас спалит. Нет, нет, сестра, ты не ходи к нам, чтоб к хутору близко не подходила!» Филипп Захарович на сестру говорит: «Ты что, ошалела, что говоришь? Ей и так тяжело переживать, а ты еще своя так ее огорчаешь!» Сестра вторично отвечает: «Не черт ей виноват, надо было жить, а не вертеться!» Я как сидела на траве, у меня зазвенело в ушах, сердце забилось и по голове будто бы кто молотом ударил от сестреных слов. Поднялась с травы и пошла без оглядки назад домой. В кусты вошла, оглянулась: Филипп Захарович стоял на месте, закрыв лицо руками, плакал и что-то говорил. Но мне не слышно было.
Кусты от его хутора было метров 100. Дорога лежала от их хутора до нашей деревни почти лесом. Но я дорогой не шла, самой густой трущобой. Я хотела, чтоб встретить волка, медведя. Пусть меня б растерзали и все кончено со мной! Но, видимо, еще не пора, придётся еще мучаться. Шла я мимо этой деревни, где одну ночь побывала замужем. Обошла кругу версты две, чтоб ни с кем не встретиться с этой деревни. По всему лесу я шла и все думала, что несчастней меня нет на свете.
Пришла домой, мне маленькая сестрёнка Нюра говорит: «Новость есть: твоя подружка Мотя родила девочку». На утро я пошла навестить Мотю. Мотя просит меня перекрестить дочку. Я согласилась. Крестный был Мотин сосед - учитель. Мы перекрестили. Вот мы с Мотей больше породнились, как подруги и вдовы. Но мои дела были хуже, чем Мотины. Мотя баба свободна, а я жила целый год под страхом. Яков мне все время грозил: «Убью, застрелю!» В лес за грибами я перестала ходить. День работаю на конях, вечером никогда не водила коней к лесу, к ночлежникам. Наши ночлежники видели моего злодея: не раз ходил с нашей стороны, меня спрашивал, кто наших коней стережет и приводит.
Стерёг наших коней паренек Гришка. Он немного был картавый: «А стозь тебе, какя тебе дела, кто старозить. Я старазу, как Груска выпригит с бороны или с плуга, я беру коней и увозу на нослег». - «Так она не приводит коней к лесу?» - «Нет, не приводит. Не ходи не карауль, а то тебе скорей голову оторвёт кто-нибудь, если будешь тут ходить». Вот с тех пор он перестал ходить на наши леса.
Мне написал заявление свояк, Дунин муж, в народный суд. От нас народный суд был верст 25. Как же, ехать или итти боюсь. Дорогой встретит - убьет или обезобразит мой злодей.
Если б до смерти, то не страшно. А как изувечит - то будешь не человек. А мне и так страданья от него много.
Я собираюсь итти пешком. А мать стала просить отца, чтобы дал жеребочку. У нас была молоденькая жеребочка, очень легкая и шибко очень бегала. Отец позволил мне на ней ехать верхом. Я обрадовалась: пешком итти верст 25. Я забратала уздечкой, скнуздала ее, мешок сена набила, через спину жеребочки положила. Привязала еще веревку, через спину жеребкину перекинула, сделала две петли как струмина. В седле одела шубной пиджак короткий, в руку взяла ременную плетку. Дело было - уже ноябрь, было холодно. Поэтому я надела шубной пиджак. Беру жеребочку за повод и говорю: «Ну, Маша, вывози меня из моего горя!» Кличка была жеребочки Маша. Мать и сестрёнка Нюра вышли меня провожать, открыть мне ворота и за мной закрыть. Я все собирала на дворе, чтобы люди меньше видали и меньше трепали языками. Я попрощалась с матерью и сестрёнкой, заложила ногу в струмена и в секунду уже была наверху. Одернала юбку, поправила все хорошо, чтобы в дороге не исправлять. А жеребочка не стоит на месте, топает, рвется. Мать предупреждает: «Смотри строго, а то она тебя свалит верхом да еще убьет!» А сестрёнка смеется: «Грушка, как у тебя ловко получается, как у козака». Я ответила: «Погоди, как дойдет до тебя - и ты будешь козак, как я». Мать открывает мне ворота, крестит мне дорогу. Я придерживаю повод, чтобы жеребочка не взяла сразу в галоп.
Из деревни я выехала скоро, потому что мне в этот край нужно ехать. А наш двор был крайний. Мать и сестрёнка долго мне смотрели взад, пока я скрылась и уже далеко отъехала. Я почти ехала рысью, в галоп мало ехала, а когда приходилось переезжать деревню, я совсем шагом ехала. Машка была очень пугливая, она очень строго смотрела по сторонам и могла быстро свалить всадника. Пугалась, кто из-за угла выйдет, где тряпье какое висит на плетнях. Машке все было страшно.
Вот выходит старик с резвинами (Резвины - заплечные крошни для носки сена. (Вл Даль)): шёл, наверное, за сеном. Зовет: «Кум, а кум, ты давно видел казаков или кавалеристов? Выйди, погляди!» Старик тут же выходит, такой в одних, верно, годах. Вышел, даже без шапки, заторопился и спрашивает у этого, смотрит по сторонам: «Где казаки?» Потом сплюнул и говорит: «Меня ты, кум, обманул. Это едет какая-то тетенька, но, видно, наездница. Ведь нашу бабу за 100 рублей не посадишь нерхом. Она, видишь, едет - хоть бы что, да и на жеребенку видь как строга идет, ноги под собой не чует». Я подъезжаю к ним, останавливаюсь и спрашиваю: «Дедушки, скажите пожалуйста, сколько верст до народного суда?» Один спрашивает: «Охаха, красавица, с кем же ты будешь судиться?» А второй говорит: «10 или 12, больше не будет». А Маша моя так и то - ни идет, ни стоит на месте: видно, интересант спрашивает. «Как же ты не боишься ехать в такую даль и на такой молоденькой жеребочке ехать?» Я ответила: «Ничего, я и сама молодая».
Время подходило под обед. Я выехала за деревню, пустила Машки подводья и помчалась почти в галоп. И приехала в народный суд - только пошли обедать работники нарсуда. Я привязала Машу за жердочку, разкнуздала, вытрясла из мешка сено, сама вошла в прихожую.
Недолго пришлось ждать, пришёл комиссар. Я подала заявление. Он проглядел его, положил и сказал: «Не раньше как через месяц, раньше нельзя. Только, гражданка, приготовь судебные издержки, не меньше как сот восемь или семь пятьдесят рублей денег». Я поблагодарила, что приняли заявление.
А писарь был из нашего прихода, он все про меня знал, что со мной случилось. Я вышла, отвязала свою Машу, пристроила также струмина и быстро вспрыгнула наверх. В окна воткнулись люди, которые были в прихожей. Мне только видно было, как они засмеялись, я уже скакала по дороге как настоящий всадник, чтобы завидно вернуться домой.
Приехала я домой - еще не стемнело. Все убрала, жеребочку накормила, напоила, спасибо ей сказала, в мордочку поцеловала свою Машу. Я ее очень любила за ухватку. Мать и сестрёнка спросили, как дела. С отцом я не разговаривала. Я ответила, что через месяц будет суд, только денег надо много: восемь или семь сотен пятьдесят рублей надо денег.
Мать и сестрёнка мне ничего не ответили, я вечерком пошла к сестренке Дуне. По пути зашла к Аришке, и рядом кумушка Мотя. Мотя говорит мне: «Ты знаешь, что я тебе расскажу новость! Вчера вечером приехал полушубочек коротинькой, вчера приходил к нам, все расспрашивал про тебя, как и что случилось с тобой. И просто просил меня, чтобы я тебе передала, что он хочет тебя видеть и поговорить с тобой». Но меня это не обрадовало. Я выслушала с холодком и пошла Дуне сказать, сколько мне нужно денег за развод. Откуда собрать? Но Дуня не могла одна ничего сделать без мужа, а сказала: «Будем придумывать, откуда денег взять, но помочь надо». Мне немножко легче становится, что хотя сестра не бросит меня прямо в грязь лицом - так, как сестра Фенька: та прямо наотрез мне отказала, чтобы близко я не подходила к ее хутору. Осипа Тихоновича дома не было, я у Дуни переночевала и рано утром иду домой, как меня зовет Аришка. «Подожди!» - догоняет меня, отдает мне письмо. Я взяла, заложила за пазуху письмо. Пришла домой, взяла резвины, пошла за сеном в сарай. Там это письмо прочитала, письмо было от того паренька, который мне раньше прислал два письма. Письмо было написано не очень большое, но складное. Я, конечно, все писать не буду, но вкратцах.
«Здравствуй, Аграфена Ивановна. Я слыхал о вашем несчастном замужестве, и для вас оказывается большое горе. Но я слыхал еще только частичку. Я только прибыл вчера вечером из своих курсов. Но курс еще не закончил. Может, я вам буду в чем полезным человеком. Я слыхал, что вам нужны средства платить судебные издержки, и ты мечтаешь, что негде взять. То поимей меня в виду: я могу тебе помочь в средствах и могу подождать по успеху твоих дел».
Прочитавши письмо, я почти не поняла, откуда мне такая милость, совсем от чужого человека, и стала читать дальше: «Уважаемая Аграфена Ивановна! Верно, ничего не замечали за мной и за моими отношениями к тебе. Вспомни, как пасли мы с тобой лошадей. Все твои выходки мне нравились. Я безумно бесился в душе, но виду я никому не оказывал. Ты не раз мне песню пела: «Мальчишечка молоденький, полушубочек коротенький». От этой песни я получил прозвище, но меня это не злило - твоя выдумка, а я только любовался тобой и твоими выдумками. И до сего время я не мог никак тебе объясниться в своих отношениях к тебе. Жду ответ или скорой встречи с тобой. До свидания. Уважаемый тебя О. Куз. Блинов».
Дочитавши письмо, я долго стояла в каком-то раздумьи. Но ни до чего не додумалась, положила письмо в запазуху, наложила сена и понесла - положила Машке своей, вошла в избу. Какая я стала рассеянная, не знаю, чего сказать. Почему-то волнуюсь, трясется все у меня.
Был какой-то праздник, у филипавский пост, Никола или Видения (Введение во храм присвятой Богородице). Было сборище у Аришки. Собрались девчонки молодые молодухи и пареньки. Пришла Мотя со своей маленькой дочкой. Все собрались, одной меня не было: я кончила ходить по зборищам и по вечеринкам, никуда не ходила, кроме своей сестры Дуни. Этот парень узнал, что меня нет и не будет. Он стал просить Аришку, чтобы она сходила за мной. Аришка знала, что я не пойду. Она отказалась. Парень этот стал просить Мотю, чтобы Мотя сходила к нам и вызвала меня хоть на улицу.
Мотя пришла ко мне без девочки и обманным путем вызвала меня на улицу. Говорит: «Ты все сидишь в хате, небось, уже закоптела, давай выйдем на улицу, посидим около вашей хаты!» Я накинула шубу на голову и выхожу. Мотя говорит: «Оденься, а то простудишься, вечер холодный». Я смеюсь: «Нас с тобой жалеть некому, хотя и умрем». Только я вышла за дверь: на бревнышке около хаты сидит этот парень. Не успела я закрыть дверь на улицу, он привстал быстрым шагом, подошёл ко мне, поздоровался со мной, стал расспрашивать. Потом Мотя убежала кормить свою маленькую Верочку. Я немножко постояла с парнем и тоже пошла в избу. Пареньку хотелось больше со мной поговорить, но у меня не было настроения.
Сестрёнке Нюре я сказала первой, что мне Блинов обещает 500 рублей и будет ждать, покамест я достану, но не спешно. Эти слова быстро узнал отец и мать. Отец уже стал со мной разговаривать и говорит: «Пусть Блинов принесёт к нам эти ченьги, мы сделаем бумагу как документ, до какого числа он будет ждать. А свинья опоросится в марте - мы поросят продадим и отдадим ему деньги. Это хорошо - он нам поможет».
Блинов принёс нам деньги - 500 рублей и этими деньгами опутал меня и нас всех. Не в далеком будущем стал просить у отца мою руку и согласия на вступление с ним в гражданский брак. Я ответила: «Еще я с тем браком не разделалась, а уже второй навязывается!» Отец ответил: «Я раз принудил, а больше не стану. Как хотите, так и зговаривайтесь». После этих слов отца Блинов как стал ходить к нам на дом почти каждый день и вечер - и не мог дождаться, пока я возьму развод. Он тоже мне надоел, звягавши, скоро ли мы станем своими. А моя душа чего-то чувствовала: первая каша была заварена на молоке и то не удалась, а на воде - и не вари кашу, и вкуса не жди. Так и у меня получилось.
Тут я получила повестку на суд. Мотя и Дунин муж Осип Тихонович были у меня свидетелями. Суд судил в мою сторону. Положили вину на Якова, что не признался в своей болезни. Еще меня одобрили, что я не прозевала узнать про его болезнь и присудили мне вернуть мою постель. Но постель он мне не отдал, говорит, что все сжег. Но он не сжег. А я махнула рукой и не стала судиться. Только сказала: «Гний и ты на моей постели, дурак, буду жива - себе наживу постель».
Тут же после развода этот Блинов так подьехал на масленой тележке ко мне, уговорил, обольстил сойтиться с ним жить по-граждански или гражданским браком, без всякой записи и венца. Блинову было хорошо меня убеждать, что венец не удержит. И только правда - был факт со мной, что венец не удержал. Ну, я согласилась. И все считали, что я ему не пара. Блинов ученый, а я темная бутылка.
Блинов перешёл к нам жить как в примочи. У него было дома два брата старших, оба были женатые. Братья были довольны, что он перешёл ко мне жить. Но не долго было такое счастье в моей жизни. Блинов уехал у Кавню (Кавня, современный Каунас) доканчивать свой курс. Я осталась у отца жить - тоже не поймешь: ни девка, ни вдова, ни замужняя жена - не поймешь кто. Сначала он мне слал письма желанные, а потом стал реже писать и холодней. Я стала больше волноваться, на сердце у меня просто лежал тяжелый горячий камень. Я предчувствовала, что с Блиновым что-то есть нехорошее. Мне совсем перестал писать, а прислал письмо старшему брату про свои неудачи. Курс он не выдержал, а провалил. Жить стало не на что. Нашёл себе жену, которая ему стала помогать. От меня он это скрывал свои проделки, когда он уехал с Кавна в Смоленск. Приехал Блинов, стал писать старшему брату, чтобы брат помог ему. Но не выяснял, на что просит: «Помоги!» Брат продал его пальто, ружье и выслал ему деньги. А я ничего и не знала, если б не сказал мне родственник, который работал на почте. Афанасий мне сказал. Пришёл к нам, спрашивает: «Ты ничего не знаешь?» Я ему смотрю в глаза, говорю: «Нет, не знаю». «Вот Блинову твоему посылал брат Никита деньги в Смоленск. Он болеет, лечится у врача, нужны ему деньги. А от тебя он скрывает, что больной». Я услыхала только через людей. Мне стало так тяжело на душе: «Эх, доля, доля, тяжела, горька!» А под сердцем больше стало шевелиться и трепетать.
Немного прошло время после, как посылал ему брат денег. Блинов прислал мне письмо, но нерадостное:
«Здравствуйте, Агриппина Ивановна - я решил написать тебе письмо. Мне в жизни не повезло, и ты живи как сможешь. Ты мне в жизни будешь не подходящая, то есть не пара. Если будет жить ребенок, тогда видно будет. Я переехал в Смоленск, болею, лечусь у врача. Может, и ты приедешь провериться у этого врача, я дам адрес».
А свой адрес мне не написал. Адрес врача был написан. Я отдала почитать это письмо сестре Нюре. Она прочитала, у нее навернулись слезы на глазах, проговорила: «Да, не везет тебе. Груша, в жизни. Но как-либо переживём и это горе. Только ты, Груш, не принимай к сердцу». Я сощепила руки, стала перед иконой, тяжело вздохнула, перекрестилась, проговорила молитву, попросила у господа бога благословение и говорю: «Боже мой, с одним еще не развязалась, а с другим запуталась еще хуже!» И не плакала, а слезы текли ручьем по лицу. Мне нужно было ехать, кстати, в Смоленск, к Архирею - снять с меня венец и быть свободной. А уже жизнь испытала, венчанную и гражданскую. Обе мне удались, как сладки - как редька, или - в поле растёт трава полынь. Я попросила у отца жеребочку Машку. Но Маша была жереба: в мае ждали жеребёночка, а сейчас декабрь. Съездить мне в Смоленск к архирею. А что к врачу провериться - не сказала, запрягла кобылу в саночки с решёточкой: позади была приделана, чтобы сидеть было ловко, и сена положить можно больше. Вот я наложила сена побольше в сани и набила пехтер (Пехтер - большая высокая корзина для носки сена (Вл. Даль)): может, придётся ночевать одну-две ночи, неизвестно, как я исправлю свои дела. Поехала. Доехала я быстро. Приезжаю на постоялый двор, сено-овес лошади дала. Сдала сторожу под охрану. Сама пошла сперва к Архирею в собор, спрашиваю в прислужных: «Где я могу видеть Архиерея?» Меня монашенька повела и говорит: «Сперва нужно к епископу, а потом к архемандриту, а потом к Архиерею». Монашенка меня привела прямо к двери епископа. Я пошла. Долго не пришлось ходить: их кабинеты были рядом. Когда всходила в каждые двери, я клала три поклона. Подошедши к епископу, он благословил и указал на стул сесть. Стал расспрашивать. У них была, видно, причин моего развода. Так что говорить много не пришлось: резолюцию наложил, иди дальше. Когда я всех обошла, с меня сняли венец. Я отслужила молебен за здравие. Пошла на постоялый, проверила лошадь, пообедала, отдохнула.
Отдохнувши, пошла по городу искать по адресу врача. На это я была доступна, несмотря, что деревенская. Я быстро нашла дом. Номер сходится, улица Красноказарменская, тоже ,та же. Подошла к двери, на дверях было написано вывеска: врач венерических болезней.
Когда я прочитала, меня охватило по всему телу дрожь. Мне пришлось постучать в двери. Сию минуту открыла мне двери санитарка и сказала мне сесть на диван, а сама пошла в комнату. Я положила свой узел с продуктом, у меня было фунтов пять свинины и полпуда ржаной муки, я захватила с собой: может, где придётся платить. То время деньгами так не интересовались, как продуктами. Это был 19 или 20 год. Тогда было голодное время. Посидела я час, потом, видимо, пришёл врач и тут же вызвал меня. Стал сперва расспрашивать, болела ли чем, заразными болезнями, в семье может кто есть заразный больной. Я отвечаю: «У нас никого и в природе нет заразных больных». И про себя думаю: откуда, какая налётная зараза на меня? Вот еще нахал! Ну, ладно, что дальше будет. Дальше спрашивает: «Вы кто будете Блинову Осипу Кузмичу?» Я отвечаю, что я сама не знаю кто, он меня подговорил. Я послушала его словам и сошлись жить гражданским браком. Пожили вместе только один месяц, он уехал в Ковну курс держать. А я осталась дома жить у отца, осталась от него в положении. Он сперва мне писал, а потом перестал. И последнее письмо прислал, вот нате почитайте, если интересуетесь. Да знаете чего про Блинова, пожалуйста, не скрывайте от меня его тайну. От такого подлеца - что он задумал делать. И меня оставляет в положении, несчастную женщину, да еще какую-то заразу на меня наводит.
Когда врач прочел то письмо, мы разговорились больше про все. Он погыкал и приказал мне раздеваться. Врач стал осматривать. Долго смотрел и слушал. Меня еще первый раз в моей жизни осматривал врач. Мне было совестно врача. Осмотрел и приказал одеваться. И говорит: «Действительно, вы правильно Блинова назвали «подлец» и от меня «негодяй». Вы, Аграфена Ивановна, в полном здоровьи, но первые роды у вас будут тяжёлые» Я оделась. Он помолчал. Я поблагодарила его, спросила: «Сколько вам за визит?», он ничего не сказал. А я предложила: «Если не брезгаете, у меня есть свинина и ржаная мука, возмите!» Врач со всем удовольствием согласился взять продукт. «Возьму, возьму, голубушка, как же не взять? Это теперь ценные вещи». Я отдала узелки, а сама ожидаю мешочек. Выходит его жена, берет меня за руки и ведет в комнату. Там был накрыт стол к обеду. На столе стоял самовар и лежало в коробочке немножко сахарину к чаю. Мы сели чай пить. Жена нарезала на блюдечке моей свинины закусить. Врач выпил какого-то вина. Нам предложил - мы не взяли. Он выпил рюмочку, стали закусывать и чай пить. «Вот, голубушка, теперь и тебе все расскажу про твоего Блинова. - А я ведь рада этому случаю, врач будет мне говорить. - Вот слушай! Блинов у меня лечится уже шесть месяцев венерической болезни. Где он ее достал, это ему знать. Всю вину он клал на тебя, моя голубушка, будто он тебя из-за болезни бросил. Но как я теперь убедился в твоем здравии, ты хорошо сделала, что приехала провериться ко мне. Я тебе дам справочку, что ты в полном здравии своей красоты, а с ним, подлецом, я по-другому поговорю! Вот придёт срок родов твоих, приезжай ко мне в больницу, на Покровку. Я там работаю уже много лет». Мы разговариваем в комнате, а Блинова, как уже знакомого человека, санитарка впустила в переднюю и ждет. Он, наверное, когда услыхал мой голос, его тоже, небось, покоробило. Блинов был уверен, что я не поеду к этому врачу на проверку. Когда разговорились, мы стали с врачом друзьями. Он еще меня одобрил, что я деревенская, а боевая, не пугливая, как это обычно бывает - деревенские девушки. Вот мы закончили свой разговор, распрощались с женой, а сам врач проводил меня до двери.
Только я открыла дверь: как столб стоит перед дверью Блинов. Я как взглянула на Блинова, так меня просто огнем обдало. Врач видит, что я испугалась. Позвал санитарку отвести меня в комнату. Дали мне успокоительных капель, я сижу в комнате, а боли покатились по всему животу и телу. Врач стал разговаривать с Блиновым, но я не слыхала, чего они говорили. А санитарка мне передала, что они говорили: я ее просила, чтобы она подслушала незаметным путем. Врач стал Блинова страмить: «Как тебе не стыдно, Блинов, такую девушку сгубил, притом опозорил, наволок на чистую душу грязи. Она может на тебя подать в суд, а ты ответишь за ложное показательство». - «А у нее нет свидетелей» - «У нее есть документ - вот свидетель». Блинов опустил голову, сел и задумался, а врач вошёл ко мне в комнату, дал мне еще какие-то капельки, проводил меня за дверь на улицу, только другим ходом, и приказал мне итти побыстрей на постоялый, где стояла моя лошадь. «А Блинова я задержу, пока ты не успеешь дойти».
Время было уже темно, на улице уже горели фонари. Я дошла приспокойно на постоялый двор, где стояла моя жеребочка Машка.
На постоялом дворе мне пришлось вторую ночь ночевать. На утро я рано выехала из города, чтобы раньше приехать домой. Вот всю дорогу ехала ничего, а не доехала верст восемь до двора, как раз не доехавши одну версту до этой деревни, где была Наташа и Таня замужем. У них были поля очень гористые, где проходила дорога на Смоленск: вот с горы съезжаешь и под гору въезжаешь. Вот я съезжаю с горы, еду со Смоленска, а вижу: с горы съезжают ко мне навстречу, должны встретиться у самой подошвы. Я издали узнала лошадь первого своего Якова. Он ездил от евреев в извоз в заработок, со Смоленска привозил товар евреям в магазины или в лавки. Он вез пустые бочки, лошадь шла шагом, он шёл позади воза, согнувши голову вниз, как спал. И проснулся ото сна: вдруг видит, подъезжаю я. А я стала сворачивать заранее шагов десять от дороги. Но снег был еще неглубокий, кобылка моя шла легко по снегу. Но у меня сердце забилось, что встреча с неприятелем, и по дороге, как на грех, никого не видать было. Я насторожилась, как в атаку пойти с врагом. Неприятель увидал, что я повернула в сторону, он идет прямо ко мне навстречу и с восторгом говорит: «А что, попалась в мои руки такая-сякая! - Стал называть неподобными словами меня. - Я теперича с тобой расправлюсь!» Уже шагов пяти от меня. Я укрепила ноги в седенья, спиной уперлась в задинку, чтоб не сразу свалиться с возочка. А кабылка у меня - как птичка. У Машки была такая сноровка, если вожжами жиманешь, она сразу пригнёт на дыбы - и в галоп. Пошла до тех пор, пока скажешь: «Стой Маша, тише!» У меня только в руках ременной кнут и дубовая кнутовища на конце с балдовешкой. Может, с полфунта был весу. У меня надежда была только на Машку: если выручит. А то погибать придётся между этих двух гор: отбиваться мне нечем, кроме кнута. Я вокруг левой руки вожжи закрутила, а в правую взяла кнут кверху балдавешкой. Левой рукой нажму вожжи, а правой буду лупить по чем попало балдавешником. Вот подошёл, берется за Машку и уволится ко мне в сани. Но не удалось ему, он прогадал: только он дотронулся подбородка Маши, как я сильно жиманула вожжи. Машка взвилась на дыбы прыгнула и пошла в галоп, что есть духу. Враг упал, оторвался от Машки, стал хвататься за возочек. Но я попала ему по руке балдавешкой. Он совсем упал на снег. Машка несла меня как от хищника-зверя, все в галоп. Я чувствую по расстоянию, что уже не догонит враг. Сказала Маше: «Стой, отдохнём, от врага ушли!» Машка тут же остановилась как вкопанная, только живот и ноги у нее трясутся от бегни. Я оглянулась назад: от врага мы были далеко. Он стоял на том же месте и тряс кулаком, очевидно, давал мне проклятия. Я слезла с возочка, похлопала Машку по щекам, поцеловала ее много раз и много раз сказала: «Спасибо тебе. Маша, что спасла меня». Потом села у возок и стала выезжать на дорогу.
Ехала шагом до самой Тани. У Тани я остановила. Уже были сумерки. Я рассказала все, зачем ездила, что со мной случилось и в Смоленске: «И на вашем поле перенесла все сражения». Таня говорит: «Если б на меня так случилось, я сразу испугалась, растерялась и он набил мне, сколько влезло, и сделал со мной, что ему угодно. А ты, видишь, бедовая, не боишься ничего». Я говорю: «Ты живешь у мужа под крылышком, а я беззащитная. Мне нужно все самой, от всего отбиваться».
У Тани поужинали, сходили к Наташе. Осыпалась ребятишками: тех трое и своих уже двое. Всех пятеро. Шум, крик в избе. Обратно пришли к Тане. Я стала собираться домой ехать. Таня меня стала отговоривать и ее муж тоже, чтобы я не ехала, а ночевала у них. А у Тани тоже прибавилась семья: пара ребят и сами вдвоем. Я говорю, что я ночью не боюсь, жизнью я не дорожу. Поэтому мне ничего не страшно. Наоборот, я люблю лунные ночи. И как раз взошла луна.
Я вышла из избы, напоила свою спасительницу. Она немного отдохнула. Я села в возочек, жиманула возжей, и Машка поскакала во весь опор. Был ельник, лесок с оврагом по обе стороны. Тут часто останавливали проезжих, но меня никто не остановил. Я через час была дома. Но, правда, Машка моя переутомилась - 55 верст пробежала. Филиповский день маленький. А по деревне разговор только про меня: как эта водится, что к одному слову правды десять слов неправды. Но что поделаешь, переживай, Агриппина Ивановна. Видимо, такой долей награждена. А нарекла мне моя мать такую долю.
У Кузьмы не пошла семейная жизнь прочной: ему сильно ревновала жена Мотей. У них ни одного дня не проходило без драки. Дашка была очень ревнива, а Мотя была зубоскал: на каждой встрече с Дашкой подсмехала Дашку. Чтобы успокоить жизнь, Кузьма поступает на винный завод - в Крапивну - работать.
Работает Кузьма два года. Завод от нашей деревни две с половиной версты. Он приходил каждую смену домой выпивши, а то и совсем пьяный. Стала жизнь семейная еще хуже, беспокойней Дашки. Она Кузьму провожала и встречала, не веря Кузьме. А в этом конце была Мотина хата, и в этот конец ходили на завод. Вот Дашка никогда не успокаивалась: ее раздумье брало, что Кузьма туда и оттуда заходит к Моте. Но это, как старые люди говорят, что ненавидят друг друга - это не к добру. Так и в Кузьме с Дашкой получилось.
Кузьма заболевает, простудился и с простуды пристала чахотка. Болел больше года, стал лечиться, когда уже было поздно. Но умирать он не хотел. У Кузьмы народилось две девочки, он жалел девочек. В семье Кузьмы жили мать, отец, меньший брат и две сестры. Старшая сестра немного из-за угла пыльнута пыльным мешком (То есть некрасивая). А младшая была хорошенькая, умная, хитрая и совсем была красавица. А за старшей сестры сидела в девках: к Марфе не сватаются, а к Фонаски много сватов и женихов, но отец не отдаёт Фанаску. Вот приезжают к Фонаски сваты: волостной старшина за сына сватать. Сын был некрасивый, рыжий, глаза на выкате. Если б был бедный, за него никакая не пошла бы. А как богатого сын, то приехал к красавице.
Но посаги у нее не было: отец жил небогато. А волостному хотелось взять красавицу и сто рублей посаги. Тут Егору Степановичу пришла беда: не отдать дочку - жених богатый, жалко упускать. Просватали Фонаску.
Марфа - в слезы, что «Младшая выходит, а я остаюсь». На нее заругались братья Кузьма и Василий. Но она успокоилась.
Фонаску стали пропивать («Пропой» на Смоленщине - помолвка.) - пришли за моей матерью, она была Фонаски крестная.
Моя мать рассказывала, как на борошах (Борош - видимо, договор о приданом и других условиях брака) заругались сват со сватом и жених с отцом. Волосной выжимает сто рублей, и невестин батька говорит: «У меня нет сто рублей! Хотите - берите так, а не хотите - не надо».
А Фонаска говорит: «Я не пойду!» Она переживает: сстра против и свекор сто рублей требует. А жених Федор, тот напролом лезет: не надо ни ста рублей, ничего, а только б Фонаска согласилась выходить за Федора. «Я из своих сто рублей добавлю, а возьму!» Ну, никто никого не переспорил.
Жених уехал, согласились готовиться к свадьбе.
Когда началась свадьба, то батька жениха хотел настоять на своем, не унижать себя против сына: как он волосной, ему позор, что бедную берет. Женихов отец почти совсем разрушил свадьбу - нужно ехать под венец, а волосной требует: «Посагу на стол клади, свои сто рублей - и все это. Едем домой без невесты!» Невеста плачет. Жених как-то пошёл к ней в чулан, где Фонаска плакала. Стал уговаривать Фонаску. А батька всех своих свадебников сорганизовал, запрегли лошадей и все выехали, полный назад: все свахи, дружки. Только не найдут одного жениха, потом нашли жениха вместе с невестой, тот батьке отвечает: «Ехайте домой, я не поеду без Фонаски. Меня не примешь в дом - я в батраки пойду - только с Фонаскай».
Волосной попрыгал, попрыгал, потом оселся. Дружки уговорили, назад вернулись за невестой и поехали под венец. «Я, - говорит мать, - тоже ездила, свадьба была очень богатая».
После свадьбы свекор опомнился, полюбил невестку и все хвалился: «Не бери сто рублей, а бери человека, вот как моя Фонаска!» Бывало, едут к братам, к тестю в гости по всей деревне на светлорыжем жеребце в хорошем возочку: брат Василь, сестра Марфа. Дашка все повыйдет встречать: кто ворота открывает, кто Фонаску с возочка сажиют. Это были дорогие гости.
Только Кузьма не мог уже ходить, а лежал и ждал смерти. С полгода не прошло, как первый за все время посватался к Марфе: такой же, как она - махлабучка: бедная кобылёнка в оглоблях валилась, в жениха одежина была - серый армяк простого сукна и веревкою подпоясан, шапка у него была зиму и лето одна, вся рваная, хлопья клочьями торчали. И сам - ни с вачей, ни с речей - а тукала («С вачей» - видимо - с очей. То есть - и лицом не вышел, и говорить не умеет.). Вот это был жених! Петра быстро поженили. И начали жить так, как и все люди. Но бедность одолевала хозяев: одного нет, другого не заводилос. Вот тоже на моих глазах приезжают в гости к этому батьке к братьям. Уже известно, что Кузьма не мог ходить. А Василий даже из избы уйдет, когда приезжают Марфа в гости: кобыленку привяжет Петруха по тот бок дороги за плетень, даже близко и к воротам не подъедет. Погостят один час - и садятся на простые сани как попало: кто на коленки, а кто боком. И поехали с гостей: никто не провожал и не встречал. Это жизнь Марфина.
Старики скоро умерли один за другим. Василь с Марьей-женой тоже недавно поженились, отделились от Кузьмы. Дашка и Кузьма остаются своими девочками: была большая семья, и все разбрелись кто куда.
25 марта - Благовещенье. У меня родился мальчик: только успели перекрестить, через три дня мальчик умер. Из-за тяжёлых родов я рожала дома, в больницу не поехала.
И ото всей суматохи своей жизни, заболеваю нервами. И стала болеть. Свои врачи не могли определить моей болезни и назначают меня в Смоленск на исследование. Я собралась ехать.
Узнал Кузьма, что я поеду в Смоленск. А Кузьме тоже нужно давно было ехать в диспансер туберкулезных. Дашка пришла, попросила, чтобы я с ним поехала. Я с радостью согласилась с Кузьмой ехать: с мужиком все смелее ехать такую дорогу. Когда-то Кузьма был здоровый и огромный мужик. А это время он уже от ветра валился и шатался, мне его приходилось поддерживать.
Вот едем от врачей со Смоленска. Кузьма тяжело вздохнул и говорит на меня: «Да, сестра, ты будешь жить, у тебя заболевание нервов. А я умру, у меня чахотка и последняя стадия». И крупные слезы скатились по его исхудалому лицу. Я не показала виду, что заплачу, проглотила комок, подошедший к горлу, слез - стала утешать его. Но утешение не помогло, он говорит: «Я не ребенок, меня не уговоришь!» И верно, я подлечилась и осталась жить. А Кузьма 23 апреля, Егорьин день, умер, а оставил две девочки и молодую жену Дашку. Так, как и Мотя. Тогда перестала Дашка ревновать Мотю, когда испытала сама такую участь. И стали Дашка и Мотя почти подругами. Но верной подругой была я у Моти. К нам уже присоединялась Дашка. Но в заключении наших поступков была старшей я. Мы прожили так вместе подругами три года. Как девушки дружили. Но, конечно, нашу вдовью жизнь нельзя равнять с девичьей.
Я немного подлечилась, стала забывать свое горе.
Первый мой герой женился. Год пожил с молодой женой, с родов жена умерла. Шесть недель отошло, он себе привез жену за 50 верст, чтобы поменьше про него знали. Около близу за него уже после второй жены не шли ни девушки, ни вдовы.
Но много он не жил, года четыре пожил - сам помер. Третья жена осталась в бедности, в горе. Трое ребятишек нажил, черт некедлый. Вот узнала меня третья жена: встретится со мной, то она все говорит на меня: «Ой, разумно ты сделала, что от Такого змея ушла. И молоденькая была, а догадалась, а я-то, дура, вышла, и мне никто про него ничего не сказал. Вот теперь и горюй горюшко».
Часть 8
Сколько я ни жила в деревне, а мысли у меня мечтают, что я буду жить в Москве или в Смоленске. Но Смоленск меня не интересовал: городок он небольшой, возможно, я встретилась бы с Блиновым. Но мне его не хотелось встречать: встреча взбудит больные раны прошлой жизни. Я ждала, пока сестрёнка закончит сельскую школу: она останется со стариками, а я уеду в город. У меня уже на этом мысли остановились.
Но так не бывает, что ты думаешь. Ты думаешь влезть на гору, а тебя черт за ногу. Так и у меня всю жизнь получалось: мать, отец не переставали уговаривать меня, чтобы я никуда не ездила в город. Говорят, что Нюра учится - а мы уже немолодые. Хозяйство сотрётся без тебя. А мы лучше возьмём в дом к себе зятя. Я ответила, что немножко отдохнула - надо еще меня положить в постель! Никаких зятьев и примочей я брать не буду! У тебя были зяти и примочи, где они? Отец ответил: «Но не все же такие сукины дети, а может, попадет и хозяйственный человек». Отец уже знал про одного парня с той деревни, где была Варька, и с той фамилии, что приезжал ко мне раньше в сваты миньчевник. Сегодня мы говорили с отцом, я не дала согласия: примоча брать не выходит. А назавтра после обеда приезжает Варькин отец с каким-то парнем.
Парень, видно, уже созрелый, уже в годах. Росту с меня, брови черные сошлись на переносице в одну. Нос длинный, но не безобразный. Усы длинные черные. В улыбке есть симпатия. Глаза желтые, как у кошки. Он не похож был на русского, а похож на цыгана или на армяшку. Видно, что он не спешил жениться смолоду: и не к чему было. У его отца земли было две десятины, а сынов было четыре. Этот парень отслужил службу, отвоевал вильгельмскую войну, пришёл домой и стал искать себе место в примочи. Он объездил уже почти весь район, по сватам, и хотел ехать в Белоруссию. Там у него были родственники. И заехал к нам с этим стариком как попутно, поглядеть места и невесту.
А я была как отравлена этой замужней жизнью. Я стала ненавидеть мужиков.
Меня застали сваты дома. Я дала скотине сено в обед и стала мешать поросёнку тесто. Подходили ко мне здороваться - я не дала руку. Рука была мокрая и в тесте. Старик, Варькин отец, стал хвалить его парня моим старикам, что парень с бедного дома, не баловной и хозяйственный. «Так что бери, Иван Кузьмич, етого парня! Парень хороший, будет жить хорошо. А дочке твоей прыгать уже некуда, она кругом обговорена, согласится и будет жить!» Мать спросила: «А как же его звать?» - «Да Яков, а по батюшке Ефремович». Он стоит между стариками и в разговор не увязывается, а слушает.
Я была одна в избе, и как рассеянная: не соображу, что мне делать и как поступить с этим батькиным хозяйством. Вот через хозяйство еще третье ермо хотят надеть мне на шею: с теми я боролась и почти уже переборола, а как с этим поступить - не знаю. И посоветоваться не с кем. Да я на совет не склонялась, а всегда обдумывала сама. Тогда обижаться не на кого, кроме себя. Даже такие мысли приходили в голову, что все сожгу! Пусть сгорит все хозяйство, и будет чисто. И я буду свободна на все четыре стороны, буду пролетарий! Да еще и этого парня зовут так, как того. Даже противно было слышать имя «Яков». Как говорила моя бабушка, что не всякому по Якову, а мне даже два - и не любезные, и мне стало неприятно. Я даже сплюнула большой плевок слюни. В этот момент скрипнула дверь, в избу пошёл этот парень. И я взглянула на него так, вялым взглядом, даже не пригласила сесть.
Он догадался, сам сел на лавку и начинает говорить, подбирает слова, чтобы я не отрезала ему без слов: «Вот, голубушка, ты знаешь, зачем мы к вам заехали. Конечно, ты старика, наверное, знаешь, а меня - нет. То я объясню, зачем мы к вам заехали. Твой отец нуждается в подсобной силе мужиков. То, может быть, я смогу вам помочь - вступить с вами в брак и жить у вас. Мне дома жить не при чем: земли две десятины, а нас четверо братьев». Я слушаю, не перебивая его, потом ответила: «Вы слыхали про мою жизнь, что со мной случилось первый раз и второй раз? Если я вам не объясню, то вы всегда мне будете упрекать. Если у нас что с вами получится, то лучше узнай вперед, не будешь ни на кого обижаться». Яков отвечает: «Мне все известно про тебя, и плохое, и хорошее. Мне дядя Анисим все рассказал хорошее про вас. Дядя Анисим сказал: «Пусть она пять раз выходит замуж, это теперь не позор, по-моему. Я как ее сватал, она бедовая. С ней можно всюду жизнь построить. Пусть согласится за моего самого малого сына - я взял бы ее с радостью, не побрезговал ею». Так что мне все известно, только от вас услышать согласия. Я ответила, что не пойду и жениться не буду, с меня хватит двух раз, что кому одевали. А третье ермо я одевать не стану! А что отец настаивает, то он хозяин. Яков ответил: «Тогда как же быть?» Вошли старики и мать в хату. Мать стала лучину ломать и жарить колбасу, а меня послала за водой на самовар.
Я сходила за водой, поставила самовар - как гостям. Я не похожа была на невесту, а как батрачка все поделала в хозяйстве. И пошла к Дашке.
Избы были рядом. Дашка спросила: «Кто к вам приехал?» Я ответила: «Варькин батька с каким-то дядькой». Дашка смеется: «Дядька он еще очень молодой. Дядька скорей будет жених, чем дядька». Я ответила: «Ну да, все будут нам женихи». А Дашкина сноха Марья пришла к Дашке тоже новость сказать и говорит: «Грушка, ты не слыхала новость? К нашей Дашке приедет сегодня жених в примочи!» Дашка на Марью говорит: «Довольно тебе, Марья, трепаться языком». Тая засмеялась: «Не веришь - побожусь, что приедут». И Марья говорит: «Прикураться в избе, да сама построже переоденься». Не успели мы выйти из хаты, с Мотиного конца едут два дядьки, и как раз спрашивают у Моти Дашкину избу. А Мотя бежала ко мне, как раз в этот конец, и говорит: «Поедем, я укажу вам ее хату». У Дашки была хата - большая пятистенка, досталась покойному Кузьме. Все стали около нашей хаты кучей: смотрим, с кем Мотя едет.
С дядьками подъехала к нам. Мотя говорит: «Вот и ваша хозяйка, которая вам нужна, вот на лицо. Дашка, к тебе гости, принимай гостей!» Дашка повела двух дядек к себе в хату, и Марья пошла вслед за ними.
Я с Мотей зашла к нам в хату: наши гости сидят за столом, подвыпили, весёлые, разговаривают крупно. Все про хозяйство. И уже договорились, все согласны, только дело за мной.
Мотя мне сказала, что сегодня утром пришёл Блинов. Но я его не видела. И говорили: очень худой. Он сидел у Аришки. Да он и сроду худой долговязый, никогда жирный не был. Мы поговорили с Мотей, и нас позвали в хату. Мы сели за стол в ряд к гостям или сватам. Сели, выпили, и с холоду разгорался румянец по щекам. Мне с Мотей веселей. Яков на нас только посмотрит: бери любую. Обе были не дурны на лицо. Только Мотя была росту ниже за меня.
Тут Мотя узнала, что этот Яков будущий жених мой, по разговору стариков: толкает меня под бок, что этот лучше за тех двух. Я не спорю. Говорю Моте: «Бери его себе» - «Да что ты, он ко мне не пойдёт, в такую обузу. У меня ведь сколько — четыре брата, да у меня и девочка, и сестрёнка. А ты - одна, как девочка». Выпивши, этот Яков посмелел. Стал с Мотей разговаривать, и присоединяли меня в разговор. Но я была замкнута на этот раз с разговором. Я думала: как отмотаться от жениха и от хозяйства и быть пролетаркой?
На этот раз меня не уговорили, и жениху пришлось уехать без всякого результата. Мотя назвала меня дурой, что я не согласилась: «Ой, ждешь Блинова!» Она меня как шпилькой кольнула. Я ответила: «Нет уж, задом раки ходят, а я не пойду». Не кончили мы с Мотей разговор, приходит Аришка, отзывает меня с хаты, говорит: «Груша, Блинов сидит у меня - и велел, и просил, чтобы ты ко мне пришла! Он что-то хочет с тобой поговорить и все у меня расспрашивал, какой был мальчик, сколько жил, как с Грушкой отец обошёлся. Я ему рассказала, что отец хорошо обошёлся: мальчик был вылитый похож на тебя. Но Груша очень тяжело переживала. Я ему говорила, что ты не станешь с ним разговаривать. Но Блинов не поверил, все же послал меня. И на маленькую записочку. Прочитай и дай ответ, он так говорил». И я взяла записку, почти не читала: мне было все его отвратительно. Вошла в избу, взяла карандаш, на обороте его записки написала как резолюцию: «Товарищ Блинов О. К., у меня с вами все покончено. У меня больше нет слов для тебя. Прощай навсегда. Агриппина». И отдала записку Аришке.
Она ушла. Мотя поинтересовалась, стала спрашивать, чего он писал, но я не знаю, я не читала записку. Что я написала, я сказала Моте. На этот раз я от Моти ничего не скрыла.
Мотя пошла домой, но еще зашла к Дашке. У них уже было все дело на лад, и назначили через две недели свадьбу. Денис был тоже засиделый парень, степенной и хозяйственный. У Дашки с Денисом пошла семейная жизнь лучше, как с покойным Кузьмой. И Дашкина судьба успокоилась. А моя судьба еще все шаталась неопределённо.
Но по рассказу, как мне передавала Аришка, Блинов мучился. Его мучила совесть, что он напрасно «наволок на меня болезнь» и отказался от меня. Когда он был в чужой стороне, ему было легче забыть меня. А на глазах - и все слухи слыхал про меня - никто из деревни не покорил меня. А корили его, что нахально сделал. Он хотел меня бросить в помойную яму. Но я вылезла, а попал он сам в эту яму и не вылезет никогда. Он хотел вернуться ко мне, но я отмахнула такую грязь и не намерена никогда встретиться с ним.
Блинов поступил работать писарем в свою волость. Приходил домой каждый день. У него не проходило мысли, что он должен встретиться со мной и все забыть прошлое, а начать жизнь со мной новую. Если бы не было старых ран! А то когда-никогда, а вспыхнут старые раны и дадут боли больше, как свежие. Я избегала встречи. А к нам ему стыдно было зайти в избу. К сестре Дуне он ходил часто. Он думал, что чем-либо он воспользуется - слухом или встречей со мной. Но ему это не удалось. Он сколько раз просил Дуню, чтобы Дуня задержала меня. Но Дуня ему наотрез сказала: «Хватит, раз обманул, второй раз ее не обманешь! Ей с тем первым злодеем надоело скрываться, да еще разных послов да в разведчики прислал! К Грушке - хватит! Она от вас обеих собак немало пережила. А теперь ходишь и ты, как пахнук длинный. Что, ты ее не знал? Сперва была хороша, а потом стала нехороша! Вспомни, как ты над ней издевался, подлец! Ты уходи и никогда не приходи – ты тоже нам известный гость!»
Часть 9
Я немножко отступлю назад, какой был ко мне посол от первого Якова. Когда он жил в Смоленске, у него был задушевный друг и товарищ. И, наверное, годами они были ровесники. Вот заявляется тот товарищ к Якову в деревню начальником дезертирского отряда со своим отрядом: ловить дезертиров по деревням. Как к товарищу, заехал поночевать. Разговорились тоже, как товарищи: как жизнь? Яков говорит: «Жизнь, как жестянка: женился, жена убегла, не мог удержать. Целый месяц ходил просить: на глаза меня не допускает - вот какая птица». - «Сколько она у тебя жила?» - «Нисколько. Из-под венца приехала, пообедали, ночь переночевала на лавке у нас - и утром ушла. Никто не видел из нашей семьи. Вот и хожу теперь. И тесть меня из дому выгнал, я им надоел». - «Эй ты, ротозей - а не мужик! Завтра в наших руках будет! Только укажи дорогу до дома, где она живет!» А я жила ту зиму у сестры Дуни. Я редко приходила к отцу: и то, когда отца нет дома, и ненадолго схожу. Яков рад стараться такому случаю, что завтра вернет ему боевой товарищ молоденькую жену. С радости соглашается. «Если не пойдёт ко мне, то бери себе, только чтобы не досталась кому другому!» Вот садятся на коней, переночевали, и едут прямо в нашу деревню, и прямо к отцову двору. Этот комиссар со своим денщиком, или холуем, как вернее назвать. Остальные солдаты на деревне поставили своих лошадей, тоже по дворам. У Дуни двора не было. Коней наставили, а наехало солдат - полная деревня. Подъехавши к нашим воротам, за время стал комиссар кричать: «Открывай ворота, как хозяин хороший!» Мать в испуге открыла ворота. Денщик стал коней привязывать, а комиссар первый вошёл в хату. Богатая накидка на нем, теплая фуфайка, шапка казацкая, сам высокий, стройный мужик. Гимнасторка комиссарская, сам бедовый на вид. И на погляд - как виноград, а на вкус - как редька: это старинная поговорка. Как взошёл в хату, так сразу осведомился, с кем моя мать живет. Мать ответила: «С хозяином. И дочка ходит в школу». - «А еще где дочка? Вы скрываете ее под занавесом - которая вышла замуж и не хочет жить, убежала, и вы, родители, до чего допустили, что такая молокосос делает, что хочет, по-своему. Ничего, мы ее вернем, заставим жить, за кого вышла!» Комиссар как ни пугал мать, что той не было места в хате, пока пришёл отец. И с отцом также: гонит мать из хаты: «Иди, приведи дочку. Ты, небось, знаешь, где она путается?» У матери ноги-руки затряслись от страха. Мать пятьдесят лет прожила с отцом и не видела такого страху, как от этого комиссара.
Мать не сразу пошла за мной, чтобы не дать следа, куда пойдёт. И все мать удивлялась, откуда комиссар у нас все в доме знает. И догадаться она не могла, кто ему рассказал все про наш дом.
Мать пошла доить корову. Подоивши, пришла к Дуне, запыхалась, заплакала: «Ой, доченька, тебя заберут! Что ж делать?» Я отвечаю спокойно: «Кто заберет?» - «Комиссар к нам приехал. Ой, если бы ты слыхала, что он говорит: со страху умереть надо». И начала рассказывать все, как было.
Был Дунин муж дома, Осип Тихонович, и еще два мужика у него ночевали, и я. Тут мать повеселела. А я матери сказала: «Ты не бойся комиссара, у тебя нет дезертиров. Ответь ему так: пусть едет, ищет дезертиров, это его дело. А кто ушёл от кого, это не его дело. Это подослал и рассказал мой бывший злодей Яков, вы же можете догадаться. И Якова видела Дашка, как он подвёл этих комиссаров к воротам, а сам повернул лошадь и поехал назад домой, вот кто. - «Я теперь расскажу старику - ну вот, и страх весь». Я сказала: «Если завтра приду, то и ночью поговорю с комиссаром. И лошадей выгоню со двора вместе с комиссаром!» - «Что ты, доченька, не показывайся, а то увезут.» - Я не дезертир, не увезут, не бойся». Мать пошла домой, а мы преспокойно поужинали и легли спать, но я плохо спала, я готовилась на сражение с комиссаром. Пришла я к отцу, уже позднее было утро, по деревне блуждают солдаты, а около нашего двора стоят человек десять солдат кучкой. Я прошла мимо, сказала: «Здорово, ребята!» Мне честь отдали, как на смех: кто под козырёк, и хлопнул голенищем об голенище, кто - «здравствуй, командир в юбке», и все засмеялись. Как будто они все знали, что я иду на сражение с комиссаром. Когда я вошла в сени, прислушалась, в избе был крупный разговор комиссара. Только я перешагнула порог избы, как орлом выхватился из-за стола комиссар, подошёл ко мне, осведомился: я ли дочка хозяев? Я ответила: «Я. Что вам угодно от меня?» - «Вы что замуж вышли и не живете?» Я ответила: «Позвольте мне знать, это не ваше дело!» Комиссар повышал голос: «Как это так: он мой друг и товарищ!» Я отвечаю: «А мне черт с вами, что он тебе друг!» И выхожу на улицу, где стояли солдаты. Вслед за мной идет комиссар, мать вслед за комиссаром, сощепя руки, чуть не плачет- боится, что меня сейчас заберут и увезут. Я остановилась недалеко от солдат, чтобы наш спор слышали солдаты. Комиссар идет ко мне, покачиваясь на обе стороны от пьянки: он был налит вином и спиртом, как винная бочка под пробку. Еще стояли бутылки на столе не убранные, после завтрака.
Это время нигде не было ни вина, ни спирта, а для этого глота комиссара, очевидно, все было. А солдату нехватало сухого куска хлеба. А у населения тоже не хватало ни соли, ни хлеба. А сахару и со свечкой нигде не найдёшь. Вот меня так зло взяло на этого комиссара: подошла поближе к солдатам, спросила: «Как фамилия вашего комиссара?» Один солдат наскоро ответил: «Бравиков». И сам завернулся от меня, отошёл дальше.
Без распоряжения начальника солдаты не знают, за что взяться, ждут распоряжения начальника. А начальник чуть на ногах держится, пьяный. Прислонился к нашей стенке, к нашему двору. Собрались бабы, старики, подростки. Стала большая толпа народу. Вот комиссар уж потерял меня в толпе. Но я вернулась, собралась с силами высказаться за правду, против комиссара. Попросила слово в публике: «Товарищи, дайте мне слово высказаться против комиссара Бравикова!» Мне откликнулись много голосов: «Пожалуйста, можно, выступай!» Солдаты откликнулись: «Приветствуем!» Я подошла поближе к комиссару, чтобы он слышал и протрезвел от пьянки.
Народ стиснул даже меня, но солдаты не допускали давки.
Я громко крикнула: «Товарищ Бравиков! - Мой голос пробудил его, он поднял голову и стал на вытяжку. - Вы что, защищаете родину или пропиваете родину, проглатываете глотками в свою проклятую утробу? Товарищи, все наши деревенские знают, вчера прибыл отряд в нашу деревню по ликвидации дезертиров. От начальника Бравикова распоряжения не поступили ни вчера, ни сегодня. Уже обед, а распоряжения не поступило по ликвидации дезертиров. Хорошо, что в нашей деревне не было дезертиров. Хотя бы и были, они могли дойти на фронт пешком сами за это время, сколько комиссар Бравиков пьянствует. А, небось, не подумал, как сыты в его отряде солдаты - или сухую рыбку погрызли, да холодной воды кружку выпили, вот и все. Вот из-за таких глотов, как Бравиков это негодяй, а не начальник. Глот, кровосос, мерзавец!» Я так разошлась, готова была ему горло перегрызть. Ему не понравились мои слова. Он уже протрезвел, стал запрещать мне дальше говорить. А публика кричит: «Не запрещай, она еще не кончила!» Кричат: «Продолжай!» Я продолжаю: «Комиссар Бравиков со своим отрядом выполняет просьбу своего друга. Его Друг неблагополучно женился, от друга убежала невеста. Вот комиссар Бравиков взял обязательство вернуть другу эту восемнадцатилетнюю девочку, со своим отрядом. А про военное дело забыл, что нужно выполнять перед родиной и фронтом. Товарищи, комиссар Бравиков - не наш человек, он продажная шкура. Он с помещичьей шкуры жандарм, чужегорбник, кровосос. Надо дать знать в комиссариат, какие он проделки делает между мирным населением совершенно не пристоящего ему дела. Запугал беззащитных стариков этой молодой девчонки!» Толпа народа взволновалась, солдаты переговариваются: «Это кто такая, откуда она?» Наши подростки им говорят: «Это разводка с этой хаты, где ночевал комиссар». Этот солдатик, который говорил фамилию комиссара, говорит: «Молодец, если догадается подать заявление куда надо, его пометут с комиссарства». Солдатики все отдали мне честь, прощальное благодарение. А комиссар на меня зашипел, как подколодная змея, и тут же дал приказ своему отряду: «По местам, на лошадей!» И не зашёл в хату допить свой спирт и дожрать, проклятая утроба, свою колбасу. Я схватила бутылку со спиртом, наскоро нарезала колбасу и выбежала на улицу, предложила солдатикам эту порцию. Они как грачи налетели, моментом выпили, колбаску в руки разобрали, дружески поблагодарили. А комиссар только съезжал с нашего двора, ему хотелось теперь трезвому поговорить со мной наедине. Но я не подошла.
Когда сел на лошадь, то погрозился на меня плёткой. Я помахала рукой, громко сказала: «До свидания и прощай!» Скоро у комиссара Бравикова слетит с плеч дорогая накидка и казацкая шапка вместе с головой.
Без оглядки уехал отряд.
Меня обступили наши деревенские люди. Кто говорит: «Тебя не простит комиссар, отдаст под суд». А кто говорит, что ничего не будет: зачем он увязался в ее личное дело. Так ему и надо! Молодец, герой, а не девка, не боится никого.
Вечером я пошла опять к Дуне. Осип Тихонович написал мне заявление. Я переписала и послала в военный комиссариат. Но не долго прошло время, пришёл мне ответ, что комиссар Бравиков был смещен и послан на передовую линию фронта.
Вот тогда мои родители успокоились, перестали бояться, что меня комиссар увезёт.
Часть 10
Но впечатление осталось у стариков, что только я им защитница по гроб. Но так и пришлось: после этого выступления, по деревне в каждой избе шёл разговор про меня, что боевая - такая нигде не пропадёт.
Блинову делалась лихо от этих похвал на душе. Он все силы покладал вернуть меня к себе, но ему этого не удалось.
Я еще год жила разводкой, работала в хозяйстве и на поле спокойно. Только часто задумывалась, что как сложится жизнь впереди? Городская жизнь у меня с ума не сходила, я мыслями не могла с ней расстаться. Но на моем все равно не вышло, а вышло на отцовом. Он еще меня третий раз принудил жениться и взять себе в помощники мужика.
Отец меня второй раз спросил: «Ну как, дочка, будем делать? Ведь хозяйство все у нас рухнет, если ты не согласишься. Надо согласиться - и нас успокоишь». Я обозлилась и говорю: «Как хотите, так и делайте, хоть в печке сожгите!» А у самой посыпались слезы, как град, и отвечаю: «Ведь у вас есть самая маленькая дочка, пусть с вами остается!» Мать ответила: «Та хорошо учится, и она тихенькая такая. На нее нет надежды. А тебе все равно, ты обговоренная. Тебя все уже узнали! Еще хорошо, что женихи не отказываются, а то, небось, и не возьмёт никто». У меня сердце просто из груди вырывается от этих предложений.
Только кончили этот разговор, батька запрёг Машку и поехал к жениху в розгляды: как тогда была такая мода ездить к жениху или невесте в розгляды. Проезд до жениховой деревни - 15 верст, но Машка была у нас бегунья, ей надо время на 15 верст 1 час, да на отдых - 1 час. Не успела я успокоиться, смотрю, уже батька едет с женихом и жениховым батькой. Я сидела около окна и не вышла отпрячь кобылку: у меня опять поломились ноги, покамест они на дворе отпрягали кобылку и разглядывали двор, что во дворе у нас было - куры, корова, поросенок пуда на три, эта кобылка, которую только выпрягли, и от нее жеребенок второй год - темно-серый копейчастой масти, просто был красавец. Весь по жеребцу и уже перерос мать. Машка была росту маленького, ножки тоненькие и шея тонкая. Но чистая рысачка для бегства.
Вот пока они все разглядывали, я пошла огородами к Дуне. Я искала спасения, но не нашла.
Нарочно шла огородами, чтобы не встретиться с Блиновым. Я избегала его.
Сестра Дуня не знала, что мне посоветовать, а плакала вместе со мной - Что я такая несчастная, - она мне ответила, - что с первым не удалось, со вторым тоже, а с третьим и начинать не надо. На этот разговор пришла мать за мной и за Дуней.
Осипа Тихоновича не было дома, как говорится: еще пропивать или запивать мою несчастную долю. А то время не терпит - последняя неделя перед масленицей. А тогда наступит пост - свадьбу гулять нельзя.
Я долго не шла от Дуни, все плакала и проклинала все на свете и всех. И все же я струсила, надо было мне убежать из дому совсем напропалую. Но у меня не было никакого документа и копейки денег со мной.
Я пошла, как угорелая: голова болит, в ушах шумит. У меня был вид больной, как чахоточный. У меня уже нервы пошатнулись, а жениться нуждают.
Домой шли тоже огородами. Я тоже проклинала свою судьбу и молила Бога, чтобы батька и мать так плакали от этого зятя, как плачу я. Тогда б они сознали, как насильно неволить.
Пришли домой. Я скрозь зубы сказала: «Здравствуйте!» И растерялась, не знаю, за что взяться. Всегда была боевая, а то совсем опешила. Стою у порога, спрашиваю мать, давала ли она скотине или нет. Сказала: «Нет, не давала». Я вышла во двор и взяла большую корзину. И пошла в сарай за сеном. Ветерком обдало меня на свежем воздухе, мне стало немного легче. Иду в сарай - у меня немного ноги шагают. А как обратно итти - голова долой: вот шла бы я, шла, только не выходить третий рач замуж. Села в сарай и сижу, а меня ждут. И за мной даже следили мать и сестра Нюра.
Вот бежит Нюра шибко в сарай: «Ты что, не скоро?» Я молча и не спеша навалила корзину на спину, пошла. Теперь больше итти не куда, только как жениться.
Вошла в хату. Уже все сидели за столом и ждали меня. Приглашают поскорей садиться за стол. Я шубу рабочую скинула и, не переодевшись, в будничной одежде села за стол напротив жениха, не смотрю ни на кого. Ни пить, ни закусывать не взяла ничего в рот, а вино было - самогонка. Жених гнал всю неделю на свадьбу. У него очень много родни: и двоюродных всех думал пригласить на свадьбу. Он был первый или старший сын у отца. Отец не хотел, чтобы он шёл в примочи, и я свекру не приглянулась: совсем не весёлая, как бывают невесты весёлые. А я на вид действительно выглядела совсем больная. По виду женихов батька согласен был отказаться от меня. Но жених настаивал, чтобы ускорить свадьбу - и мой отец.
Они у нас заночевали и наутро мы должны ехать расписываться. А в волости работал Блинов переписчиком. Как раз на утро поднималась такая вьюга-метель, что божьего света не видать - а ехать надо. Поехали дорогою. Разговоров никаких не было, будто я не умела говорить. Жених тоже молчал. А вьюга за нас говорила, и просто ветер завывал. Дороги не следа не видно. Ну, кой-как добрались до волости.
К нашему счастью, ушёл писарь, что расписывает брачных. Писарь ушёл нарочно: его Блинов просил, чтобы меня не регистрировали: - мол, посидят и уедут. Так Блинов стал поперёк моей дороги.
Так целый день просидели. Почти вечером выехали домой.
Ночь была темная, ничего не видно: дороги нет, замело всю. Да сбились с дороги, поехали не по той дороге. Хорошо, что нам повстречался на лошади. Мы спросили: «Куда эта дорога?» Нам ответили, что вы едите не к дому, а от дому.
Мы повернули Машку вслед за той лошадью. Вот ей стало немного легче итти по готовому следу.
Пока выехали на знакомую дорогу, домой приехали под утро. Нас ждали - ждали, - да и жданки поели. Мне жалко было только Машку. А себя я не жалела: пусть заморозила, не жалко. Скорей был бы конец! Так и на жениха думала: «Туда тебе дорога! Пусть бы заморозился: не ездий в такую непогоду да и ночью!» Но он вынослив был. Он - солдат, холоду не боится. Вышло то, что намучили Машку и не записались.
Почему не было писаря - я знала эту причину, что сделал это Блинов. Но я никому не сказала.
Ну, ждать некогда. Через два дня назначают свадьбу.
Со стороны жениха свадьба была хорошая. Но мы почти не готовились к свадьбе.
Когда началась у нас вечеринка, девушки молодые, молодухи пляшут. Я сидела, ничего меня не интересовало. Потом вышла в сени.
Блинов меня подстерегал и по виду вышел из терпения подбирал момент встречи, стал передо мной: «Аграфена, прости, вернись ко мне! Я виноват дважды перед тобой. Я возьму всю вину на себя. Буду ценить, уважать тебя до гробовой своей жизни!» Прохожие люди слышат и смотрят, как уговаривает и умоляет Грушку: дура будет, если вернется к нему. Я переспросила: «Что, кончил?» - «Да, я кончил». - «Я давно с тобой покончила, мы вовсе с тобой теперь чужие». И пошла во двор.
Слышу, как люди хвалят этого Якова, что лучше за первого и за второго.
Блинов стал угрожать моему жениху, что не пропустит без драки. Дуня услыхала, сказала мужу. Тихонько тот сел на коня и поехал навстречу жениху, чтобы они сняли звонок и объехали с другой стороны деревни - и прямо к нашему двору. Так и сделали. На дороге помедлили.
Под утро молодежь разошлась домой, а жених втихомолку подъехал ко двору, никакой драки не было: не затеял Блинов. Не закинули даже зайца на дороге.
У нас называется - зайцы, когда едет жених к невесте. Молодежь захочет выпить - ставят скамейку на дороге, приградят дорогу жениху: вот откупи дорогу вином! Женихов дружка всегда брал с собой вино.
Стали собираться под венец. Сделали такой обряд, как первый: потому что я второй раз иду под венец, а жених - первый.
Нас отец и мать благословили. Тут я уже так не плакала, как первый раз обмирала. Я спокойно наклонилась, поцеловала икону. Так же сделал жених.
Я пошла, как одеваться. Но пока одеваться - я подоила корову, вынесла поросёнку. А женихов крестный увидал, что я понесла ведра поросёнку и говорит: «Туды ее мать, она не спешит венчаться, а спешит поросёнка накормить!» Да покричал на меня: «Поскорей справляйся, а то поезд свадебный ожидает!» Поезд был - 14. Кони были запряжены в саночки и возочки. Другие были убраны все в ленты и в бубенчиках. Для чего это так была убрана упряжь, я даже не знаю.
Ни то против Блинова, ни что я кругом была обговорена — вот не побрезговал, а идет парень к ней: мол, воскресай обратно, Агриппина Ивановна, и живи на славу!
Когда подъехали к церкви наш поезд, удивлялись люди, что за девушкой так не приезжает разукрашенный поезд, как за мной - разводкой.
Разом со мной венчалась невеста соседней деревни, девушкин поезд был не убран, жениха свадебники все хаяли. А моего все хвалили и завидовали, что хороший. Но меня и эти слова не радовали. Я была как окаменелая.
Когда приехали к жениху, там было собрано столько народу, что не пройдёшь по улице: словно весь район сбежался на нашу свадьбу. Обед отошёл честь-честью, гости все довольные, веселые.
Я даже не пила, не закусывала, но как развлечение смотрела на женихову родню: за столом сидело 20 мужиков, и все как одного батьки: высокого роста, плечистые, носы длинные с горбинкой. Но не безобразные. И все намёком угощали меня.
Когда отошёл обед, запели песнь очень складно:
Окончил курс своей науки
И в дом родительский вошёл.
Просил в отца благословенья,
Которого отец не дал.
Пред вами, друзья, сознаюся:
Сестру родную полюбил!
Я все преследовал за нею
И все к любви ее склонял.
Зашёл к сестре я раз у спальню:
Сестра задумавшись сидит.
Я пал пред нею на колени,
Сказал: «Сестра, люблю тебя!»
Сестра от жалости сказала:
«Люблю, люблю, братец, тебя!»
И шумно двери растворились:
Отец у спальню увошёл.
Свирепо глазы засверкали.
Он бросил взор свой на детей.
Сказал: «Вы дети мои, дети.
Зачем пролили кровь мою?
Тебя, несчастна дочь, прощаю.
Тебя, мой сын, я никогда!
Подайте черную карету:
Я сына в каторгу сошлю».
Потом начали петь:
Чумаки жили, чумаки - тридцать три годы.
Не видали чумаченьки над собой беды.
Серед города сделалась беда:
Заболела чумакова буйна голова.
Лежит чумак день, лежит и другой –
Никто того чумаченьку не отведывает.
Отведывал чумаченьку товарищ его.
«Товарищ ты мой, а чем ты болен?» -
«Болят у меня ручки, ножки, болит голова.
Болит моя головонька - может, я умру.
Ты иди-ка, приведи-ка, кого я люблю».
Потом:
Цыганка гадала, за ручку брала:
Погибнешь ты, девка, в день свадьбы своей.
Жених обещался выстроить мост.
Чугунный, огромный, на тысячу верст.
Ближние гости разъехались, а дальние остались ночевать. Якова тетка все пела, сидела еще за столом:
Нате вам ложки, нате вам чашки, тарелки,
А мне дайте хоть одну рюмочку горелки.
И продолжала дальше:
Не щебечите, мелкие пташки, в долине,
А не будите моего свекра в перине.
Я, молоденька, рада раденька, что он спит.
Я за работу - он за воркоту, боже мой.
Я за кусочек — он за гужочек, боже мой.
Я за ложечки — он за вожжечки, боже мой.
Я за люлички — он за пужичку, боже мой. (Пуга - кнут, плеть, хлыст (Вл. Даль))
Потом присоединились к тетушке еще несколько свашек, пели:
Перелетывала перепелочка со ржи в пошеничку.
Скажи, скажи, перепелочка, ан де тебе лучше?
- Во рже хорошо, во рже хорошо, в пошеничке лучше.
Потом невесте поют:
Что в батька хорошо, а у свекра лучше.
Дальше пели:
У Ивановых воротиках
Там стояла вода вольная.
Вода вольная, холодная.
Тама Грушечка воду брала.
Тама Яшечка коня поил.
А ты, Грушечка, печальная,
Ты снимай платье венчальное
И берися за работушку -
Все за бабскую заботушку.
Дальше пели все песни, ко мне касающиеся:
А за новыми, за воротами
Рассыпаны карты.
А минется тебя. Грушечка, девичьи жарты. (Жарты - шутки)
А за новыми за воротами
Рассыпаны иглы.
А мииутся тебя, Грушенька, девичьи игры.
А за новыми, за воротами
Рассыпаны перстни.
А минутся тебе, Грушенька, девичьи песни.
Когда я услышала, что кончатся мои девичьи песни, думаю: неужели я теперь никогда не запою ни одной песни! Мне жалко стало, что я расстанусь с песнями.
Но свахи продолжали все петь и мужики. Только пели все врозь.
Я больше не слыхала, какие песни пели: меня пригласил жених на «честь» в другую хату. Там было вино, закуска, свекор, свекровка и два девиря и маленькая 10 лет заловка - все были за столом, и все меня угощали очень желанно.
Этот Яков не такой, как первый. Все угощает, подкладывает мне закуски и всё: «Ешь и пей!» Но у меня как было горло перевязано: ни хочу ничего кушать. Когда мы вернулись с «чести», где были свадебники, которые пели, ближняя родня стала расходиться по домам. А дальняя родня, которым далеко ехать, остались ночевать. Остались мы с женихом. Вечером, как сели за стол ужинать, так и утро застало нас всех за столом. Все разговаривали, песни пели. И все мужики - Яшкина родня - со мной по одиночки переговорили. Почему им так было интересно со мной разговаривать, я не знаю. Утром - кто вылезал из-за стола, а кто и с вечера сидел за столом, так и завтракать остались.
Вот завтрак отошёл. Вот свекра братья два - мне уж они дядюшки - после завтрака занялись со мной разговаривать. И в разговорах я им, видно, понравилась. Один был флотец, другой жил в Смоленске. Они тоже, видно, занятные дядюшки: все их мое интересовало. А тут как раз пришёл тот дядя Анисим - минчевник, который раньше меня сватал. Поздоровался со мной и говорит: «Ну что, ко мне не хотела выходить за моего сына, а вышла не лучше мова сына: работать будет, а похлопотать он не сможет. Самой придётся тебе всюду хлопотать. Только что в нашу фамилию!» - они были однофамильцы.
Яков, отец и мать пошли в амбар: там отделяли сыну одежду и белье. И, наверное, плакали вволю: когда вошли в избу, во всех глаза были наплаканы. Я взглянула на всех и говорю: «Ну что ж, если не хотите его ко мне отдать - я не неволю. Я поеду одна домой!» А в уме думаю: «Вот если бы дал бог, чтоб он додумался сам, со мной не поехал, было б хорошо!» После этих слов все немножко помолчали. Отец начинает говорить и слезы навертываются на глаза: «Вот, мои сыночки! Всех я вас растил по-равну. И, наверное, самому первому сыночку не угодил, что он отлетает от нас, как птичка самая первая и ранняя!» И сильно заплакал навзрыд. Мать голосом заголосила и то самое причитывала, что говорил отец. Яков стоял, голову повесил, ничего не отвечал. Я сидела с дядюшками: как мужик, ожидаю решения. И смотрю, как они все расплакались! Мне было почему-то не жарко, ни холодно. Я сидела хладнокровно. Потом отец после слез начинает говорить: «Ну, какую мы дадим Яшке часть из дому, что он у нас проработал 27 лет и поддержал нам хозяйство? Когда уехал Яшка на заработок в Кронштадт, он нам высылал каждый месяц 40, 50 рублей. Мы все долги выплатили в банке и у евреев. Но только не долго ему дали там пожить, его отозвали в Красную Армию и попал на войну, прослужил 7 лет. Был на войне, два раза ранен!» Отца выслушали сыновья и дядюшки и говорят: «Пусть берет себе, что ему подходящее». Вот Яшка согласился взять себе из хозяйства молодую корову первым отелом, швейную машинку: меньший брат был портной. Согласился отдать машинку, ему нужно было грубей, это была белошвейка. Еще красной дубки тулуп, валенки. Обратились ко мне: «Ну как, Агриппина Ивановна, обижаться не будешь?» Я ответила: «Это дело не мое, а дело отца». А сама думаю: неужели думает ужиться у нас? А ну, не уживется - придётся ему тащить назад все хозяйство.
Все успокоились. Пообедали. Собираемся ехать ко мне домой. Машинку поставили на сани, сундук с одеждой на сани, корову привязали за сани.
Приезжаем в нашу деревню. Тут - кто у окошка сидит, кто на улицу вышел, дивуются: вона как! Она как едет и везет за собой все хозяйство. «Смотри, черт гнутой, - Аришка с Мотькой указывают Блинову, - вот человек не побрезговал, что ты ее клал в помойную яму! Она, смотри, вылезла. А ты, черт гнутой, сам закупался в той яме». Блинов ничего не ответил, вошёл в свою хату, и вот как они нарекли ему, этому Блинову: и действительно, он попал в яму и не вылез из нее!
Часть 11
Я начинала жить семейной жизнью. Молодой наш хозяин старательно стал работать в хозяйстве. Вина не пьет, в карты не гуляет. Людям стало завидно, что мне попал такой хозяйственный человек. Только невоздержанный - очень матерно ругался. Он так матерно выходит и старого и малого! Ему все равны! Тут под такую честь попадал не раз мой отец. Ему стало неприятно, что зять пожил без года неделю и так обматывает стариков, а не уважает: чего им хотелось - только уваженья! К его старанию да было б уваженье, старикам-то и сын не надо. Ну, так не вышло и не бывает: что-либо да будет неудача. А мне сказать они боялись - они знали, что я им отвечу: «Вы его брали, а не я!» А мне пришлось смириться к Яшке не по любви, а по его старанию. Он любит много трудиться, а мне его много раз было жаль, как он через меру трудится. Ко мне он относился чистосердечно и хорошо. Ласкать, нежить ему было некогда меня из-за работы: если он затратит пять минут со мной время побеседовать, то ему здавалось, что он за эти пять минут две горы свернул. Но я на это не обижалась, что меня не ласкает Яшка. Меня никто не ласкал и не жалел. Я не привыкла к таким ласкам. А любовь моя с молодых лет отравлена была. Яшку я совсем не любила, но жалела и ценила его за все. И никогда не отдавала в обиду его. Против общества или каких припятствий он был в нашей деревне одинок и беззащитный. А еще нападали на Яшку со стороны Блинова. Но я поддерживала Яшку во всем. Яшкины братья и отец помогали нам в работе: брат портной пошьёт одежду, брат сапожник сошьёт сапоги, ботинки, все бесплатно. Пошла жизнь у меня с Яшкой, хотя без любви, но по порядку. Все шло в хозяйстве. Нюра продолжала учиться уже в 7 классе.
Блинов все время поджигал Яшку. Он хотел расколоть мою жизнь. Даже братья его способствовали на его тему. При каждой встрече братья Блинова с Яшкой его убеждали, что я не буду с Яшкой жить, а перейду к Блинову. Но я предупредила Яшку: «Если будут какие наговоры на меня, то не слушай людей. Пока своим ухом услышишь или глазом увидишь, тогда расправляйся со мной, хотя и голову долой сшибай!» Это были мои слова: «Что было до тебя - это мое дело. А при тебе этого сама не позволю встречаться с Блиновым. Он был мой второй злодей в жизни».
Вот пожил с полгода холостяком и стал подбирать себе невесту. Верст за десять от нашей деревни посоветовал ему друг или товарищ. Быстро сосватали. Невеста была росту высокого и толще меня, подслеповатая: у нее был природный отрахом на глазах. Глаза все время были красные с опухшими ресницами, вот он и врезался, действительно, в яму.
Во время свадьбы его невесте указали на меня наши бабье и подначили ее, говорят: «Просковья, береги своего Осипа! А то не увидишь, как вон тая молодушка отобьет - вон высокая беленькая. Она живо отобьёт у тебя его!» Я слышу, как они говорят, и больше попросила, чтоб не говорили. Аришка, Дашка, Мотя не стесняются: «Побольше наговорите. Пусть в свежести мотает себе на ус!» Между нас пролазит Машка: ее прозвали Машка-жулик. Она была способна наговаривать на кого угодно, просто спец сводить сплетни. Говорит: «Пропустите меня поближе к невесте и ее родне, я им наговорю, что им места не будет за столом!» Мы ее пропустили, она полезла по народу ближе к столу. Ей дружко поднёс стакан водки. Машка выпила, еще повеселела, хотя она без выпивки была весёлая и боевая. Она мне доводилась двоюродного брата Демьяна жена. Алексея, Петра и Марьи мачеха. Она была вторая жена у Демьяна.
Машка была намного моложе Демьяна. Жили они хорошо дружно между себя.
Когда вылезли из-за стола свадебники, Машка неспеша подошла к невесте Просковье и наговорила ей и ее сестрам все, что нужно и что не нужно. Наговорила - и на меня посматривает, улыбается: мол, я ей дам жару, слепушке, что будет глядеть быстрей. Ну, и заложила ей, этой слепушке, в башку с перва разу и с первого дня. Она стала ревновать Блинова мною. Бывало, соберутся к нам Машка, Мотя, Дашка, Аришка и смеются до упаду около молодых. Машка говорит: «Сево дня один раз подрались. А я побольше с ней поговорю: завтра два-три раза подерутся!» И сама засмеётся, как шишек.
Но, конечно, мне было на руку, что они не ладили в жизни с первого дня. Просковья была очень грубая, ни в чем не разбиралась, всем верила. И правда, Блинов с веры вышел. Он не признался Просковьи, что с ним случилось впереди со мной.
Часть 12
Мы жили в деревне 1921-22 гг. Проходили хутора Столыпина (Аграфена Ивановна ошибается: времена Столыпина давно отошли. Это был большевтстский передел земли.). Нарезка земли, земля перешла от помещика в крестьянские руки. Сразу нарезали землю полосками, а потом стали хуторками.
Вот приехал землемер разбивать хутора. Разбивал так - по душам и по жребиям: где земля поплоше - давали больше, где земля лучше - давали меньше хуторки. Наш молодой хозяин взял себе небольшой хуторок шесть десятин. Или уже были гектары.
У нас семья тоже была шесть душ. У меня родился мальчик Миша - как раз к нарезке земли. Вот три гектара было пашни, а три - не пашни. Были кусты по оврагу. Мой хозяин Яшка кусты раскорчевал, вспахал и сеял зерновые по этому оврагу. Зерновые были хорошие, стало у нас четыре гектара пашни. Яровые культуры мы все четыре гектара засевали и убирали, а потом навозом переложим - и вспашим, и сеем рожь подзим. Мы зажили на хуторе хорошо. Хлеба у нас хватало, сала, молока гоже хватало. Только скотину пасти негде было, но мы отдавали овечек на пастбище к Мотиному отцу. У него был хутор около лесу, 15 гектаров там. Свободно было ходить скотине. И у них пастушки свои были. Коров мы водили на поводках в лес и пасли по-очереди. Хутора были разбиты по всему полю, и за водой приходилось приходить и приезжать на деревню.
В конце нашего хутора была очень хорошая криница, ключ бил - просто фонтан. Никогда не замерзал и не высыхал. Вода была светлая, прозрачная. Зимой теплая - как комнатная, а летом очень холодная - как лед. Водой с этого ключа пользовались все хуторяне. И с чужих близких деревень приезжали за водой. А зимой понаедут белье полоскать - как утки по речке, так бабы с бельём поласкаются.
Вот и Блиновым братьям приходилось ездить сюда за водой. Пока были неразделённые, ездили по-очереди. Но каждый раз молодого Блинова жена не отпускала за водой, что он может встретиться со мной. Или так увидит меня, когда работаю на своем хуторе, на поле. Вот какая мысль создалась в голове молодой жены! Когда поделились братья, стали жить поврозь, за водой приходилось ездить самому Блинову. Были такие случаи, что за два километра приходила сама молодая с ведрами за водой: на плечах несет домой! Но ей было легче эту тяжбу нести на плечах, чем пустить мужа за водой, а самой быть в бешенстве от ревности. Вот так протекла жизнь у молодых Блиновых.
1922 по 1929 гг. мы жили все деревенские на хуторах, но жили тоже не равно. У кого и хлеба не хватало, а у кого оставался.
Дашка со вторым мужем Денисом жила лучше, как с покойным Кузьмой. Мотя так же жила одиноко без мужа. Но ревновали по глупости многие к ней. Аришка заболела чахоткой и умерла, сын Герасим остался сиротой. Но он уже вырос и куда-то уехал на заработки.
Дед Якутка помер, а бабка Акулина вышла замуж в другую деревню за старика. Но был бедовый старик. Алексей, после той ругани, как с нами поругался, не приезжал 7 лет в деревню. Потом приехал, наскоро женился очень на молоденькой девочке и зашил ее в один год после свадьбы: она померла. Он женился на второй с одним глазом: на втором глазе большое бельмо. И жили они, как кошка с собакой: Алексей с молодых лет бегал за чужими женами.
Я жила с Яшкой не хорошо и не плохо, по-среднему. В хозяйстве у нас все шло хорошо, даже нам завидовали люди, что мы лучше живем Блиновых. У нас ревности не было, жили спокойно. Но, как говорят, беда идет не по лесу, а по людям.
Как раз мы убирали клевер на своем хуторе. Клевер был посеян около самого оврага. Мы сгребли клевер у вали, не складавши в копны, стали накладывать на воз. Я стояла на возу, а жеребенок у нас был молодой, сынок нашей Машки. Он был пугливый и такой же быстрый, как Машка - его мать. Мы его не выпрыгли, а накладывали и подъезжали. С оврага поднялась ворона из кустов. Он испугался и понёс меня трепать с возом. Я упала на землю правым боком и здрегнула себе печень. А сынок помчался в кусты и опрокинул телегу на себя. И чуть не удавился и ушиб себе ногу. Яшка побежал за сынком, а я еле поднялась с земли и пошла домой, но мне этот побой не прошёл: я стала болеть. Врачи признают, что здрегнула печень, вот и затянулась болезнь. Я стала болеть. У нас родился еще один мальчик.
Не успела я окрепнуть от родов, как получила испуг в праздник. Приехали мужики с базара пьяные, вошли к нам в избу, заругались и завязали драку. Вот эти братья Блиновы хотели натрепать моему Яшке. А я только взяла на руки маленького. Они сплелись кучкой и бьют, кто кого попало. Я испугалась и выронила ребенка с рук. И сама упала на пол. Меня и ребенка подняли. Вот я окончательно заболела всем телом, и в середине стало болеть, аппетит совсем пропал. Тут врачи не приказывают кушать мясного. Кроме овсяного отвара. Я совсем дошла и свалилась с ног. Высохла на былинку. Лечилась год у своих врачей. Врачи тоже растерялись в моей болезни, а мне даже надежды не было вылечиться. Ребенка перестала грудью кормить. Ребенок у моей матери на руках. А матери и без ребенка горя хватит от меня. В семье стало больше горя, ждали только моей смерти. Яшка запрег Сынка, повез меня к знакомой фельдшерице не лечить, а спросить, что есть надежда вылечить меня или нет? Но, конечно, ни один врач и фельдшер не скажут, что умрешь. А все совет дают лечиться. Вот фельдшерица мне говорит: я дам тебе адрес, в Смоленске есть профессор, фамилия Оглоблин. Только он дорого берет. Но тот точно тебе скажет, какая у тебя болезнь, он берет за визит 25 руб. Она написала нам адрес, мы поблагодарили и уехали. Яшка мне дорогой говорит, что продам свою корову, а лечить надо. Так и сделал. За корову взяли 30 руб. И повез он меня в Смоленск к профессору.
Профессор меня осмотрел и говорит: ее надо положить в больницу. Назначает меня положить в Покровку, узнать у меня все болезни и взять полный анализ. Он сам там работал. Меня назначил в сомнительную палату.
В приёмной меня раздели свою одежду, а больничную одели. Кладут меня на носилки, несут в палату санитары и спрашивают у Яшки: «Это кто тебе будет, эта женщина?» Яшка ответил, что жена. «А, жена, - ответили санитары протяжным голосом,- вот, дядька, приедешь домой и женись, она безнадёжна». И понесли в палату.
Только мне стало очень обидно, что санитары так сказали на меня: безнадёжно. Мне хотелось выздороветь для своих маленьких детей и быть им родной матерью. Когда взяли у меня анализ, профессор и говорит, что опасного ничего нет, только очень разбиты нерва сеть. И болела нервным состоянием.
Я все слушала, как профессор стоял у моей койки и рассказывал мою историю болезни. «Долго в больнице держать не станем. Завтра ее на общий обед нужно посадить!» И сам ушёл в другую палату. Я не поняла, что это такое общий обед. Я у сестры переспросила, она ответила, что общий обед - черный хлеб, мясной суп, котлета мясная. А я уже больше года такой пищи не ела. Я думаю себе: это, верно, меня уж не вылечат, так на прощанье поем и умру. Вот жду завтрашнего обеда. Несут мне полное блюдо супа мясного, две котлетины и каши. Нянечка говорит: «Вот, съешь всё! Через три дня выпишут из больницы!» Я не ем, боюсь. Потом пришла сестра эта, заставила меня кушать. Но не все я скушала, а половину. Ожидаю: скоро я начну умирать. Но наоборот, наутро к обходу профессора я почувствовала себя лучше, и стала приходить ко мне живность. Профессору все это рассказала сестра и няня, что я боялась кушать суп. Во время обхода профессор подходит к моей койке и смеется: «Ну что, не умерла от супа и котлет? А сегодня больше дадут супу и котлет, и скоро выпишут тебя. Вот деньков 12 побудешь у нас и домой поедешь!» Мне радостно слушать слова профессора и не верится, что я за 12 дней получшаю. А как уверяет профессор, то надо поверить: он знает, что говорит правду.
Со мной рядом лежала очень толстая и грузная женщина, жена заведующего смоленского музыкального техникума. Ей: было от роду 30 лет, а ему от роду лет 70. Он приходил жену навещать каждый вечер, приносил много ей гостинцев: печенье, пряники, разные конфеты. Но она ничего не кушала, а все отдавала мне. Мы с ней познакомились, даже подружились.
Я уже не лежала на койке, а ходила по коридору около окошек. Мне не запрещали ходить, еще приглашали ходить. Вот подошла к окну и вижу: привязывает Сынка за изгородь мой Яшка - приехал меня навестить. Идет прямо к бараку к двери, а потом оглянулся в окно, я стою у окна и махаю ему рукой. Он быт испугался и не верит, что я стою на ногах. А ему говорили санитары, что - женись. Яшка подошёл к двери, ему няня и сестра говорят, что мы хозяйку твою выпишем из больницы. Он не поверил. Сразу приехал без моей теплой одежи. А сам был одет - две шубы. Время было - легкий морозик и мелкий снежок, в начале зимы. Доложили профессору, что за мной приехали. Он выписал меня. И выписал мне лекарства: сдержавши лекарство, показаться к нему.
Яшка одел мне свою шубу, выехали со Смоленска. Сынок напугался всяких машин, он не помнил, как ему убежать от машин. Когда выехали с городу, Яшка пустил Сынку вожжи: бежи, как ты хочешь. Вот бежал 25 километров, как пуля несло его. А потом стал притомляться, стал бежать тише. Я не успела и озябнуть, мы приехали домой.
Назавтра по хуторам пошли слухи, что я приехала с больницы, и мне стало лучше. То жене Блинова стало опять беда: она была спокойна это время, пока я болела, она радовалась, что я умру. Но мне пошло на поправку. Мне стало совсем хорошо после уколов. Организм как вновь поставили! Хорошо пила, ела и сон стал хороший. Мальчики мои подросли, в семье стал снова порядок. Яшка повеселел: пока не надо второй раз жениться. Мне часто наши бабы говорили: «Вот если б пожалел Яшка корову, ты б уж умерла, а как не пожалел... вот видишь, какая ты стала хорошая и здоровая».
Часть 13
Наступает 1929 год. В феврале-месяце у нас происходила коллективизация: у нас организовался колхоз. Стали организованно собирать сельскохозяйственный инвентарь, семена и обществили коней, коров. У кого было две, то одну - брали, одну - оставляли. Мы отдали полностью семена и меня назначили на три месяца на курсы овощеводства. Я охотно согласилась. Новое правление было избрано. Председатель колхоза был Петра Демина младший сын, Алексеев брат. Счетоводом был избран Блинов О. Кузьмич, бригадиром был Семенников Ф.И. и Блинов Тимофей Федорович. Назначено две бригады. Дожидаемся весны. И все так организовано пошли дела.
Я закончила свой курс, со всем желанием взялась за свою работу, т.е. за огородничество. На весну к нам пригнали два трактора, и лошадей было 40 штук. Так что тягловой силы хватало. На две бригады разбили коней и людей. Людей в бригаде было по 70 человек: по 30 женщин и по 20 мужиков. А потом - старушки, старички и подростки.
Вот мне правление дало на первый год - огород три гектара: 2 гектара с капустой и гектар на морковь, свеклу, и полгектара турнепсу. Мне дали две пары лошадей. Я и моя напарница Сашка вспахали, набороновали.
Земля была усадебная, мягкая и жирная. Когда-то на этих огородах сеял еврей капусту, но теперь мы сами попробуем сеять. После вспашки неделю полежала земля, слеглась и немного перепрела. Самый ранний засеяла капустой рассадой сотых две, по грядкам. Рассада стала всходить. Конечно, растила я, подкармливала я. Наростила рассады много. Хватит колхозу: посадит два гектара. И колхозникам, и соседним колхозам продавали.
Я как рассадой заведовала, мне препоручили и продавать рассаду. Я продала в пользу колхоза рассады на 1800 руб. И себе отсадили. Хватило и на посадку. Одним словом, что не стеснялись в рассаде.
У меня было 12 старушек, работали в огороде: пололи, рыхлили и окучивали капусту. Все делали, что нужно было, под моим распоряжением.
Я работала в полевой бригаде: пахала, бороновала, все делала. Огород был у меня между дел. Я насматривала и обмеряла, учитывала труд старушек. Это делала вечером после своей работы или после обеда в обеденный перерыв.
Старушки меня любили, уважали за мой подход. Я грубо к ним не относилась, и они работали на совесть и честность. Сорняки вырывали с корнем. А раз с корнем вырывали, они нескоро отрастут.
После я все записи носила к счетоводу Блинову. В канцелярии приходилось подсчитывать вместе трудодни. Вот тут-то вся беда была жене Блиновой. А бабы еще хуже ее подначивают. Машка Демчиха говорит: «Ты знаешь, Прасковья, что сегодня твой сотворял, закрылись в канцелярии вдвоем с Грушкой и записывают наряды. И он на нее смотрит, просто не налюбуется!» Он пришёл домой, ничего не знает, я тот день совсем не была в канцелярии, а жена делает сцену, драмы. Не раз прибегала она в канцелярию, как бешенная. Заставала мужа за столом, за своей работой. Тут были бригадиры, кладовщик, пред. колхоза и я. Все были по своим делам заняты.
Вот она прибежит, в пороге постоит, как дурочка. А тут еще подсмеют ее колхозники.
Но про них уже все знали, что у них каждый день была ругня и драка. В отношении к Блинову я была рада и довольна, что у них была такая неурядица в жизни. Думаю: потерпи, молодчик, как я от тебя терпела. Блинов не раз Моте сознавался, что ему тяжело жить с такой дурой. А Мотя сейчас передаст мне. Я говорю: «Мало ему этого. Надо, чтоб больше он пострадал».
Началась посадка капусты. Под капусты три раза вспахали, побороновали. Разделали землю, как пух. За сорняками следила я, за поливкой и обработкой - я. У меня старушки обрабатывали огород хорошо. Но, конечно, я работала не в одиночку, мне помогали агрономы. По указу агронома я выполняла все указания и работы. У меня была подготовлена подкормка - куриный помет. Подкармливали капусту четыре раза, также и турнепс. Выросло все на радость колхознику, колхозу и государству. И для распределения рабочего трудодня к сентябрю месяцу стала вся площадь бела от кочанов.
«Собуровка» эта нагнулась набок с большим кочаном, в ней высокая ножка. А «Слава» - кочны - эта распустилась около земли и сидит, как решето: круглый на ней кочан. Турнепс тоже - как крынки сидят на грядках.
Вот пред. колхоза Петр Макаров часто выхвалялся колхозным огородом. Приводил чужих людей на огород - смотреть и любоваться на огородный урожай. Все одобряли урожай и уход за ним - как колхозники, так и работники района и сельсовета.
Только одной было противно - Прасковье, моей сопернице, что меня не понижают, а повышают во всей работе.
Когда пошли жать рожь, я попросила у правления, чтобы мне дали отдельно участок жнива - куда к сторонке. Что я не смогу успеть выйти разом со жнеями, потому что у меня две работы. Может, на огороде забавлюсь. И еще я не любила ждать последнего: я как пришла, так и становлюсь на работу. И работаю без оглядки. А есть такие: пока придёт неспеша, а потом сядет да глядит: еще Дарья-Марья не пришла. Потом вокруг осмотрится - и на солнышко посмотрит. Скоро ли обедать сядут? А про жнива она не беспокоится, что надо спешить. Но я этого терпеть не могла. И приходилось вместе жать - то я не довольна таким тюленим спокоем. Они меня даже проклинали, называли - «сумасшедшая». «С ней лучше не становиться жать или лен брать». Я жала свой участок недолго: за 6 дней я выжала гектар и сорок соток. Рожь была средняя. С меня этого было мало - я еще добавляла жать. Когда я иду в бригаду жать, то такие тюлени говорили на меня: «Вон идет нечистая сила! Она не даст спокою сегодня нам, а все будет подгонять: скорей! А черт за ней угонится, за такой сумасшедшей на роботу!» Но я с того проклятия не болела. Для меня было все равно, только побольше сработать.
Только тогда останутся довольны эти тюлени, когда придем с мешками к амбару получать хлеб. Тогда благодарят: «Спасибо, Грушка, что нас подгоняла работать!» Вот особенно мы нагоняли дней на льне. Лен у нас сеяли помногу - по 70 гектар в бригаде. И весь его перерабатывали руками. И волокном отправляли на пункт. Трепку от нас принимал качественник по сортам. Кто плоше трепет, тот дешевлей получает все - и трудодни, и промтовары.
Вот нас было 16 трепальщиц качественных. В этом числе была и я как организатор работы. Ну, приходили с пяти часов утра на трепку. Трепали трепошками: работа очень пыльная и тяжелая. Руки отбивали совсем ис плеч вон! Но в молодости этого не замечали. Сила истекала - и за перерыв отдыха вновь набегала, как источник.
Но интересно было получить побольше сахара, масла и мануфактуры.
Трепали мы с пяти часов утра до десяти часов вечера. Час на обед - отдыхали. Норма была положена натрепать 16 килограммов. Натрепать сверх нормы - оплачивалось в двойном размере за каждое кило. Вот мы и гнали две-три нормы в сутки - по 48 коп. - 50 кг., не меньше, натрепывала отборная наша бригада. А были и такие, что только 7, 8, 10, 12 кг. натрепывали.
Наша бригада домой обедать не ходила, а брали с собой. За этот час отдохнешь, наговоришься.
Я уже спробовала песенки запевать. Вот какой большой был перерыв у меня на песенки. У меня быт и голос не такой стал. Но все же я начала петь, а бабье подхватило:
Лен мы мяли и трепали рано, рано по утру.
Мы за это получали сахар, масло и муку.
Лен я брала и вязала, напевала я припев:
Чтоб не меньше досталося на день 7 и пять рублей.
А пойду я в поле жать, пошеницу - рожь вязать.
Сталинскую пятилетку у три года выполнять.
Частушка:
Что за радость на колхозных на полях:
Там и рожь, и пшеница колос клонит до земли.
А картошка и морковка загрузила борозды.
Довольно петь, пора вставать - браться за работу.
Но покамест возмутся за работу, то всех мужиков перебориют, которые мнут лен: такую возню устроют, что вся костра и пыль подымится столбом, на сушилки.
Мяли вручную: четыре мялки было на две бригады. По четыре мужика к мялке ставили. Начинали лен мять с ноября - месяца. И до 1 января все обрабатываем такую уйму. Мять бывает и трепать плохо. Но получать за лен - хорошо, получали крепко: по 12 пудов белой муки, по 2 пуда сахара, масла льныного по 30-40 литров. Я получила мануфактуры 60 метров. Также и подруги мои, это только на льняные дни.
А на полевые получили два кило зерновых на день, картошки 8 кило, капусты 8 кило. Я с Яшкой наработали полторы тысячи дней. Получили хлеба, овощей: нашей семье за два года не поесть.
Нас было пять человек. Сестрёнка Нюра уехала в Москву. Вот так мы работали с года в год. Мне каждый год прибавляли огород.
С 29 года по 36 год я работала на огороде шесть гектар. Корнеплодов сеяли три гектара и капусты два гектара. И один гектар огурцов. Но с работой мы справлялись, давали хороший урожай, особенно огурцы и капуста. Давали доход колхозу. Я уже завела свои семена капусты и огурцы. Все это была моя работа - колхоз в овощах никогда не бедствовал.
Но мне часто приходилось спорить с предколхоза. Я часто его осекала на собраниях и даже в сельсовете: он очень часто раздувал мёртвые цифры, на все очень был хвастун. А хвастливого с богатым никогда не узнаешь. Я этого не любила и не могла спокойно переживать хвастунов: зачем обманывать людей и государство? А ему не совестно было так хвастаться. Его и бригадиры не раз осекали: «Зачем понапрасну трепаться?» Вот у нас с предом заелось зло. Как говорится, не к добру, кто кого вытолкнит.
Был отчетный год, 1936 год. Пред. колхоза вел собрание с уполномоченными, все вопросы решали, отчеты отдали. Подошёл вопрос: кого переизбрать из правления. Вот пред (Пред – председатель колхоза) первый заявляет, что нужно Глинкину переизбрать, заменить другую. Некоторые стали шептаться: «Почему, зачем ее забрасывают?» Ничего плохого колхозники с меня не замечали. Район и сельсовет ему не позволяют меня снять с правления и своей работы. Преду и собранию говорят, что от района мы Глинкину снимать не станем, она заслуживает всякого внимания, повысить ее можем. Тогда пред заявил: «Я с ней в правлении работать не буду. Или меня снимите - или ее!» Я попросила слово: «Тоже не могу работать с таким профостом в правлении, как Макаров!» Долго стоял вопрос, кого снять, но все же сняли меня. Я стала просить, чтобы меня сняли. Дошёл вопрос, кого звеньевой поставить огорода. Я от огорода стала отказываться категорически. А в душе желаю и знаю, что пред провалит. Он профост. Увесь огород - в них ничего не выйдет! Когда я стала отказываться, пред настроил счетовода и несколько колхозников удовлетворить мою просьбу. Уполномоченный района и пред сельсовета взяли Макарова под вопрос: если улучшим дело без знатной звеньевой, то это хорошо. А если пойдут дела вниз, то целиком отвечает Макаров. А звеньевую Глиникину мы переводим на опытный или показательный участок льна. Она нас поучит, как сеять лен. И мы уверены что она оправдает это задание.
Я сперва стала отказываться, но на меня налег район и сельсовет, что не бойся мщения Макарова, обращайся к нам в район и в сельсовет, мы не откажем, а всегда поможем всяким советом. Но я и взялась.
Три гектара мне отмеряли участок вместе с агрономом, с предом сельсовета. Предложили мне выбрать женщин, которых хочешь. Я взяла тех, которые самые лучшие работницы и надежные во всем, 10 женщин: «Ну, гражданочки, давай постараемся на пользу и на славу! Пусть нас знают все!» Макарова жена стала проситься и Блинова. Но я отказала: с меня этих хватит. А если не успеем, нам дадут помощь.
Но я только так сказала, а в самом деле я не думала брать подсобной силы, у меня были такие орлы, что куда. Куда я, туда и все, хоть с огня выхватят. Две немножко были послабее, но мы их настрополили своим духом. Ну, пришла пора, вдобрили свой участок, сами вспахали, сами забороновали. Два раза перепахивали зимовую пашню, сеяли кристовым посевом. Когда забороновали лен, то мычки и траву все собрали у фартуки и снесли на дорогу большие комы. Разбили на мелкие, чтобы равным был уход, не залежал под комом.
Через несколько дней появились всходы дружные и весёлые. Первую полку произвели, потом подкормили. Лен уже был высотный, сантиметров 12. Второй раз подкормили после дождя. Лен пошёл быстро. Сорнякам мы не давали оглянуться. У нас шёл порядок на нашем участке.
Зато в огороде был совсем непорядок. Бригадир с предом каждый день ругались за огород. Звеньевой никто не берется. Пред назначит бригадира, а бригадир пошлёт этих старушек, которые у меня работали. Но за целый день к ним никто и глаза не покажет. Бригадир надеется на преда, а пред на бригадира. И эти старушки - как пчелы без матки, так они без порядка. У них тоже было недовольствие, что увовремя никто не придёт, труд их не запишет, не расскажет, что их интересовало, по скольку они выработали. У них дух опал к работе.
Бригадир был недоволен, что меня сняли от огорода. Он часто к нам заходил на участок и говорил, что Макарову попадет крепко за срыв огорода.
Но мои молодухи участвовали во всех работах. Если нет работы на нашем участке (успахано было под огород только три гектара) - обрабатывали общими силами. Звеньевой был сам пред. Рассада была засеяна капустная, но не выращенная. Никто за ней не ходил, и зоркого глаза не было к ней. Рассаду пришлось покупать этот год у евреев в районе. Они занимались, сеяли рассаду и наживали с рассады хорошие деньги: продавали десять рублей сотня рассады. Вот для нашего колхоза нужно было на три гектара рассады. Как была у меня своя рассада, то мы не считали, а выбирали самую первую рассадинку и сажали ее в гряду свеженькою. Она быстро приживалась.
Пришло время капусту сажать - вот все колхозники и загудели, что нет своей рассады, приходится доставать чистые денежки и покупать капустную рассаду, да неизвестно какую. А наш колхоз не привык покупать, а все продавали. Был немалый доход колхозу. Вот колхозники заговорили: «Как была Грушка, то, бывало, свой огород отсадим - колхозники все так берут рассаду и в другие колхозы продадим. Смотришь, когда на тысячу, а когда на две. Весь доход был в колхоз. И в осень все с капустой бывали: и государству сдадим, и на трудодни, и в закупку здавали. А нынешний год - ничего. Вот и вышел по-пустому шишёл. Пред Макаров духом не падает, еще прикрикнул: «Что там говорили? - Замолчать!» Но колхозники говорили правду.
Вот Макаров назначает двух женщин - одну деву старую Просковью, вторую - молодую женщину Ефросинью. И так как он любил прихвостнуть: «Ну, бабочки, не поддадимся врагу и неприятелю!» - Но неприятель была я. - Запрягайте двух лошадей в низенькие решеточки и поедем. Я сам с вами поеду в район, там свои дела поделаю и рассаду закуплю! Вы будете выбирать и носить на телеги, а я пойду возьму денег в банке и тогда уплачу за рассаду деньги!» Наш бригадир раздал наряд. Нас назначил десять пар пахать под картошку: чтобы к обеду подготовить площадь, а после обеда садить картошку. Но у бригадира душа болела за огород, в его бригаде числился огород. Он остановил преда уже на пороге и говорит: «Возьми Грушку рассаду выбирать, она уже как спец по рассаде, не ошибется. А то привезешь какого говна или какой свалухи!» Макаров черкотнулся: «На кой черт мне твоя знахар! Я сам не меньше ее понимаю!» Бригадир пустил матом на такого знахаря и ушёл.
Они уехали за рассадой.
А мы лошадей запрягли, и я поехала передняя. Мой был перед во всех работах. За мной были - как за камянной стеной, кто со мной работал. Когда начали пахать, лошади были во всех хорошие, ходили шеговита. Земля была черная и рыхлая, от плуга рассыпалась, как каша.
Вот стали мы отдохнуть, во время отдыха я запела частушку:
У колхозе я пахала
Черную земеличку.
Не видала я милого
Целую неделечку.
Два гектара успахала.
Завтра третий успашу.
Давно видела милого —
В воскресенье погляжу.
У колхози я косила
Чисту зелену траву.
Мой миленок обещает.
Что приедет к Покрову.
Я одену белу кофту
И по улице пройду.
А какая ваша дела:
Председателя люблю.
Про последнюю частушку напарницы говорят: «Да, любовь у вас каждый день - как на ножах режетесь».
В колхозе стали мы работать,
Не жалея своих сил.
Побольше хлеба наработать –
И зажиточно нам жить.
А у сталинское время
Нам теперь только пожить.
А за труд и за свободу
Ордена можно носить.
День был жаркий, солнышко подходило к обеду. Отпригать мы не торопились, еще напахали широкую полосу. Видим, во второй бригаде начинают отпригать. И мы начали выпригать. Обедашные работы поделали, пообедали и пошли на пункт. Собрались, видим: около канцелярии идет наш бригадир, машет нам рукой: «Подождите!» Мы ждем. Подходит к нам. Он был большой чудак, что-либо да выдумает на смех всем. «Вот что, подождите, бабоньки! Там, я видел, едут наши с рассадой». - «Еще, может, которые пойдут рассаду сажать и поливать: я на огород отказываюсь итти работать! Куда хочешь назначай - пойду. Только не на огород. А то опять вся вина ляжет на меня!» Ну, хорошо, мы поедем картошку сажать, а вторая бригада будет капусту сажать - так договорились. Вот подъезжают две подводы с рассадой, прямоp align= к амбару. Тут обступили колхозники телеги, смотрят рассаду: рассада была туго сложена. День очень был солнечный, жаркий - рассада вся повяла, испарилась от жары.
Но пред скомандовал принесть с колодца холодной воды и облить рассаду. А надвечер начнут сажать, когда солнышко спадет.
Я к телегам не пошла, а стояла стоять на месте: пусть без меня посмотрят рассаду преда. Сестра Марья схватила пучок рассады и бежит ко мне бегом, говорит: «На, посмотри, знахар, хорошая рассада или нет?» Росту рассада широкая и листы широкие. Я было не хотела смотреть, а потом поинтересовалась, начала тщательно смотреть сердцевинку, откуда должны вырастать листочки, а потом кочан капусты. И с 30-ти рассадин я нашла только 6 пригодных, а это все цветуха или стволуха. Как сказал бригадир преду, что выберешь стволуху - так оно и получилось. Марья это подхватила и что есть силы побежала к телегам: в одной руке держит 6 хороших рассадин, а в другой цветуху. И закричала: «Что вы привезли, черти слепые. Вся капуста - цветуха!» И накинулась на старую деву: «Ты век доживаешь в девках, а ума не набралась! А все хвастается: «А я знаю, а я знаю, все сорты знаю!» Вот узнала - и выбрала цветухи. И наш дурак - хвастун и знахарь!» И несет - преду прямо в морду пихает: «Вот на, погляди!» Пред сразу не понял, вышедши из канцелярии: «В чем дело и крик-шум, что привез цветухи. Кто тебе сказал, кто знает?» - «Грушка сказала и выбрала рассадины». И носится Марья с этой рассадой в руках, она вся извяла. Как только Марья проговорила мое имя, так пред бежит прямо ко мне: «Ты что агитируешь, колхоз разлагаешь?» И замахнулся на меня ременным кнутом, чтоб ударить меня по голове. Тут его схватила сестра Марья и его жена, не дали меня ударить, вырвали кнут. Я стою на месте, как вкопанная. Только и проговорила: «Не я разлагаю колхоз, а ты вредитель колхоза и разлагатель колхоза! Подлец ты!» И на ближних баб говорю: «Будете свидетели!» Тут как всполохнулась суета! Два бригадира и несколько колхозников на месте хотели растерзать преда. Сообщили в сельсовет. Тут же явился пред сельсовета, агроном, уполномоченный, списали акт на рассаду. Агроном приказал перебирать рассаду: из 60 тысяч выбрали только одну тысячу пригодной рассады. Посадили, стала приниматься. И тая на половину зацвела желтым цветом: только для пчел было хорошо: пчелы брали на ней мед хорошо. Так 1936 год были колхозники и колхоз без капусты. Землю засеяли коноплей. А преда Макарова сняли с работы и отдали под суд. И уплатить за рассаду ту сумму, которую он отдал за рассаду.
На моем участке вырос лен уже полметра, темно-зеленый, как лопух: ни одной соринки в нем нет. Стоит - как сосновый бор. Когда пришло время брать лен, то лен вырос больше метра: густой, стебель был желтый, как янтарь. Головки были крупные. Но не кудряш, а долгунец. Приступили мы лен брать в самую пору. Чтобы лен не переспел, брали двойным теребленьем: сперва верхний схватим, потом нижний. Так и брали в два снопа. Мы не путали и весь чисто выбрали на первый сорт: это был красавец! Снопы стояли: поставили лен десятками, стоит, как козаки. Так десятки стоят. Кто бы ни шёл по дороге, все смотрят на наш лен, пока этот просыхал лен.
У нас еще в бригаде 67 га (гектар) льна брать. Мы пошли в бригаду брать. Тогда теребилок еще не было, все своими руками приходилось обрабатывать. День берем, а на ночь навозят сухого льна: ночь бьем вальками, палками. И отдыхать приходилось очень мало в рабочую пору.
Но зато получать хлеб было хорошо. Пока лен выберем - ячмень поспел. Овес и все жали вручную, жнеек тоже не было. Мы свой лен вперед обмолотили и послали тоже по-отдельности первый сорт. Полторы недели полежал, потом перевернули лен на другой бок. Ворочали лозовыми хлыстиками, чтобы был ровный в лежке. Еще полежал полторы недели - и подняли совсем. В бабочках постоял, проветрил. И повязали большими пучками. Покамест мять положили - тоже отдельно.
Но впереди было еще много работ: уборка картофеля, молотьба яровых, отстил общего льна. Мы свое семя свезли отдельно, поставили его на семена: оно было очень чистое, как золото. Гектар дал семя четыре с половиной центнера.
Пред колхоза у нас уже был Семенков Филипп Иванович. Но говорил - немножко перешептывал. Он все удивлялся этому льну и семю. Часто говорил: «Что, если бы на всю площадь такой лен уродился? Мы не знали б своего богатства!»
Только неохота смотреть на огород: весь стал желтый от цветов, зацвела вся капуста и выросла больше метра.
Подошла работа мять лен. Мы свой лен впереди смяли: волокно было, как голубь - сизое, гладкое, блестящее - как шёлк. И тяжеловесное: как возьмёшь горсть - слышно в руках, что тяжелое. Вытрясешь костру - волокно так и рассыпается! Просто охота подшибаить, так лен трепать. Мы его оптрепали быстро. И вот гектар дал 6 центнеров доброкачественного льна-волокна.
Наше звено получило благодарность от района и области. Премировку получили по сто рублей деньгами и также сахар, муку, мануфактуру.
Когда повезли мой лен здавать на пункт, все удивились такому качеству. И пред наш был очень доволен нашим достижением. И на второй год меня подговорили, чтобы я взяла на 10 гектар примерного участка. И все условия предлагал, только бы я согласилась смотреть за льном, и не раз говорил в глаза и за глаза про меня: «И кто ее знает, как в ней все ловко выходит! Ее все слушают! Самое главное - подход в ней богатый».
Часть 14
Как бы не теперешнее время, я была б герой труда и мастер урожая. Но теперь все прошло, мне теперь от роду 58 лет. Здоровье война крепко пошатнула. А по привычке выйдешь на колхозное поле, посмотришь глазами - а руками уже то не сделаешь, как работали раньше: то задыхаешься, то поясница и руки ломит. Теперь как хочется поработать - так, как мы работали с первых годов. В колхозе мы не считались с силой, что замучишься. И на солнышко не смотрели, что скоро обед или вечер придёт.
Если начнём скриду класть снопов или сена, то не бросили до тех пор, покаместь кончаем: будь вечер, будь полночь - домой не пойдём. В нас выходил рабочий день в восемнадцать часов. А шесть часов мы отдыхали или убирались около своего хозяйства. Зато все вбирали - и без машин! Ничего не оставалось в поле.
Я сравниваю, как молодые теперь работают: выходят в 9-10 часов утра. Три часа поработают - идут на обед, спешат. Обедают два с половиной часа, а то и три. После обеда собираются неспеша, идут, еле ноги передвигают. Пришли на поля - сядут, посидят, вшей поищутся: последнего ожидают. Приходит последний - и тоже не спешит, что он опоздал, скорей за работу взяться, а тоже садится вместе. Еще говорит: «Посидите, посидите, я еще не отдохнула!» Выходит то, что на колхозную работу она пришла отдыхать, а дома на своей работе замучилась. А время горячее уходит!
Я коснулась членов колхоза. Теперь присылают с заводов, с фабрик в колхоз народ молодой, сильный. Ну, тоже не спешат в колхозе работать, а сядут на снопы во время работы в домино или в карты играть.
Нет, урожай собирать - не картёжная игра. Это не завод и не фабрика. А сезон стоит, погода хорошая, сухая - то хватай день и ночь прихзатывай! А пошёл дождь - играй в домино и карты!
Бригадира слов не слушают, а в самих совести нет и желания: холодные к самому дорогому производству как уборка хлебов, льна, картофеля. Вот в чем дело: в некоторых колхозах бывает плохая получка, вот - зависит от своей совести. Бывают недостатки. Плохо поработаешь - плохо и получишь.
У меня раньше было, когда меня самую проклинали, что поджимала работать. А когда к амбару пришли хлеб получать - тогда спасибо мне говорили. Вот, не все люди еще с чистой совестью и сознанием. А скажешь молодым, как мы работали, так они что отвечают: «Дурака работа любит!» А на этот вопрос: «Значит, мы были дураки? И любили большой день, выходит так?» По теперешнему народу, но при теперешней механизации, если дружно взяться - то в два раза легче работать, как нам с начатка колхоза. И заметьте, что не всегда бывают правители виноваты колхоза, а бывает часто, что сами колхозники во всем виноваты.
И то бывает, когда правление пьет и глобоедничает, как глоты пожирают всех честных колхозников труд. Тут тоже колхознику отшибают все настроение в работе, что пятьсот колхозников будут работать, а вдвоем - проглотют. Примерно - пред и счетовод. Такие вещи часто встречаются в колхозах.
За мой период жизни в колхозе перебывало больше тридцати председателей. Я вступила в колхоз в 1929 году. Семь лет проработала звеньевой по огороду или овощам, год работала на опытном участке льна и добивалась хороших урожаев льна и овощей. Я вижу колхозную жизнь, как зеркало. На производстве я часа нигде не работала. Я понятия не имею, как работать на заводе или на фабрике. А в колхозе мне вся работа известна и видна: где правильно работают, где неправильно.
Но я уже теперь по здоровью слабая, как говорится: «Раз не дуж - не берися за гуш!» Посмотришь глазами, поахаешь: «Ах, как не так работается!» Но я ничего этим не помогу колхозу.
Но читателя познакомлю с колхозной работой. И я даже попросила бы у молодых людей совести и желания колхозной работы. Чтобы относились люди с чистосердечным чувством к каждому колоску и зернышку! Как нам, еще я была маленькая, говорили наши деды, что стань разбрасывать по зернышку - большую кучу разбросаешь, стань собирать по колоску и по зернышку - то вдвое больше кучу соберешь. Ведь нам каждому человеку известно по радио, по газете, как нас учат наше высшее правительство - товарищи Маленков, Хрущев и другие, что нет богаче производства, как колхоз. С колхоза, как с нистикаемого источника, можно брать богатства. Ни один завод, ни одна фабрика не может существовать без колхоза. Я описываю правду. Только правду теперешние люди не любят: они гордятся учебой. Это хорошо, что ученые. Но практики в них нет - вот это плохо. И прислушаться к практике они не хочут. Мне часто думается: если б я кончила университет, я была б большим человеком и не гордилась бы, только научала всех ко всему хорошему.
Часть 15
Макаров отбывал свой срок, ему дали три года.
В 1938 году я захотела переминить свою жизнь. Мы уехали в Московскую область и поселились в Уваровском районе - Вешковский с/с, деревня Шеваново (Шваново).
Приехали мы как раз 20 мая: так надоела мне эта волынка ревность, сплетни. Многие женщины и Мотя не хотели, чтобы я выезжала - с которыми я работала. Они говорят: «Мы теперь остаемся, как пчелы без матки, и не знаем куда лететь, организатор наш уезжает!» Только были довольны жена Блинова и Макаров. Прасковье думалось, что она отжила теперь все горе. Ей так думалось, но с ней горя так и остался.
Я меняла жизнь из-за своих детей - двух мальчиков. Думала: подъедим поближе к большому городу, к Москве - дети пойдут в город, а мы с стариком останемся в колхозе.
Но так не вышло: тут сбила с пути всю жизнь война.
Колхоз Шеваново был хуже, как мой родной колхоз: здесь мы получили хлеба в два раза меньше. Хорошо мы сделали, что привезли с собою тонну ржи, и это нам была большая поддержка. К малой получке этот хлеб нам был как находка - на 38 и 39 год. Мы здесь проработали с малой получкой, стали жить бедней. Все в свежести (В свежести – т.е. как новеньких) нас никто не знал, и мы никого. Дети кончали семилетку. Первый сынок дальше не пошёл учиться, а младший пошёл в восьмой класс.
В конце года 39 заболела сидаличным нервом: на одном году шесть раз было - лежала в больнице. К сороковому году я немножко получшила.
В колхозе Шеваново урожай был лучше, получка была побольше, но много уходило налево от преда и счетовода, как я раньше описывала.
Часть 16
А в 41 году, как нам известно, что начали разруху в жизни немецкие орды: как ироды напали на нашу страну.
Когда наши начали отступать, мы получили приказ выгонять скотину колхозную - лошадей, коров, овец. Свиней у нас не было колхозных. Всю скотину мы угнали за Москву подальше, чтобы не досталось наше добро злодею. А свои коровы остались у нас, до самого прихода нашего врага.
Когда наши бойцы приходили по нашей деревне, я вспомнила, как моя мама кормила в ту войну солдатиков. Вот и я не жалела своим бойцам. Было молоко - молоко все отдавала. Хлеб специально пекла. Каждый день варила хлебова - щи и суп - большие котлы. И к вечеру все съедали. Даже два раза топила печку и подваривала суп. Когда отступали и шли всплошную цепью, бойцы все были голодные. Вот я не хотела, чтоб немцу мой продукт достался, то я решила лучше скормить и отдать своим. Была свинина у меня - я всю отдала старшине. И двух овечек нашему старшине. Когда все раздала, стала у нас только корова одна. Только кур не успела отдать - налетели варвары, пооткрутили им головы, положили в мешок и унесли их. Было у нас 12 кур.
Назавтра, в сентябре месяце, только число забыла, понаехали туча в нашу деревню машин. Постановили машины, дома почти все заняли, в колхозной конюшне поставили две тяжёлые пушки, кругом деревни - пулеметы, зенитки.
Из домов нас повыгоняли во вшиники, в бани. Что не успели мы спрятать - все обобрали с едамого. С посуды мы все закрыли и побросали в колодцы, в пруды, чтоб не достался врагу металл - вот, как самовары, ведра, корыта цинковые. Что было железное - все попрятали.
Когда взяли нас в плен - переменили нам паспорта. Пропуск свой дали. Если станешь на деревне с кем разговаривать, то патрули стреляли прямо в цель: говорили, что это заговор партизаны имеют.
Немцы - они не любили больных и старых. У меня старик мой - 94 года ему было, сама больная и младший сынок был оконтузенный: пошли призываться в воинской части, там попал под бомбежку. Месяц полежал - и жизнь кончил. Был с 24 года. Старший пошёл уже в Красную Армию, Когда наехали немцы в деревню - сколько у нас было мужиков - все убегали в лес и там скрывались, чтобы не попасть к немцу.
Когда обходили дома - немецким солдатам под квартиры - я заявила, что я больная и старик 94 года больной, переводчику. Он не поверил и переспросил у соседей. Те сказали что правда, больная. Переводчик - их комиссия вошли к нам в дом. У меня было понаставлено разных пузырьков под койкой: я нарочно понаставила, как все с лекарством. Четыре немца между собой погаркатали, что дома хорошо, а солдат наш не пойдёт, где больные. И подобрали наш дом на клуб, под гулянья: когда новый год будут справлять. Заходили к нам редко. А я в душе молилась богу, что избавилась от антихристов. Но избавилась только не совсем.
Соседка стирала им белье. Она с ними познакомилась и сказала, что я могу хорошо петь песни. Но я, как переехала в этот колхоз - я очень мало пела. Вот немцы подбирали себе концерт - петь к новому году готовились. Как пришли к нам с этой соседкой - наставили пистолет и приказывают соседке: «Укажи, какая поет!» Соседка вертится: некуда под пистолетом. Она указала на меня. Я стала ругать соседку: «Как тебе не стыдно указывать на своего челсвека! Разве теперешнее время нам до песен? Ты если хотела им удобриться, то пела б сама с ними!» Переводчик понял, что я ругаю соседку, подбежал ко мне на меня пистодетом: что, мол, будешь петь, не откажешь! А откажешь - расстреляю! Я все же настаиваю отказаться от песен, указываю ему, что я пела до болезни, а после болезни я не могу петь. Но отказаться от паразитов было трудно: либо пой, либо застрелют. У них рука не дрогнет! И вот в один вечер под стражей двух конвойных я спела одну песню: «Вот полным полна моя коробочка». И ошеломленым (Видимо, имеется в виду, что немцы были в шлемах.) песня моя понравилась. Они стали горкотать по-своему, а меня не отпускают, так и стоят два конвоира около меня.
Вдруг прибегает их нарочный. Что гыркнул? И все, как пуля, из нашего дома выбежали. Я с облегчением вздохнула и вся дрожу. Умственно дала им проклятия и стала дожидать утра. Ночь была бурная. Я не спала всю ночь и смотрела в окно, что делалось на улице. На улице было шумно. Машин половину угнали. Переводчик сказал: едем на фронт и в отпуск - в Берлин.
Нам эти слова были непонятные. Но что-то чувствовалось радостное. Мы были стеснены и все время были под стражей. Только слыхали гул ихних самолетов. Да отправка была каждый день в Германию нашего добра - мешками. Мы только и видели такой грабеж. Их похвалы (Похвалы - здесь - похвальба.): бывало, пристанет, как ирод: «Матка, понимай - вот ваша Москва, вот ваш Сталин!» Круг обведет, как на карте, и заставляет тебя тщательно смотреть, как он, проклятый, рисует. «Вот наш шёлдат кругом Москвы - будет наш! А Сталин - пух!» Говорит: «Матка, понимай!» И сами смеются от радости, что их скоро будет Москва. У нас сердце сжимается от таких противных указаний. От своих мы ничего, ни одной весточки не получили. И не слыхали, что у нас на фронте делается. А вот как хочется узнать! Или послышать хотя бы гул своего самолета. Так было бы приятно, как матери крик своего ребенка, - так и нам в это время.
Сколько мы муки, страху, голоду и холоду, издевательства над нами приняли за эти три с половиной месяца, пока были в плену! Мы на каждом шагу и каждую минуту ждали только смерти. У нас на жизнь никакой надежды не было.
После этой бурной ночи настало утро и день. Солдат и машин немецких в нашей деревне совсем осталось мало. Девчонок-подросток с собой, проклятые, угнали, куда - неизвестно. Постарше молодежь у нас ушли со скотиной.
Нам стало понятно, что они, как бешенные, стали отступать и еще стали злей - как змеи! Мы жили этот день как окантузные и растерянные. Хотя бы вышел на улицу, с кем-либо поделился мнением - нельзя. Патрули стреляют в кого попало. Ну, дожили до вечера.
Вдруг, слышим гул нашего самолёта-ястребка. Как же нам стало радостно! Это и пером не опишешь эту радость, что гул услыхали своего родного самолета! Мы его спроводили глазами, покамест он скрылся. А слуха никакого не слышим. А чего-то радостного в душе ждем.
Как раз 25 декабря 42 года, на второе утро, немцы зажгли свои тяжёлые орудия, которые стояли в нашей колхозной конюшне. Конюшня и орудия быстро сгорели. Мы видели, что перемена в проклятых иродов большая: тут они хватались, как утопающий за соломинку хватается. Как попало и кого попало хватали - по 10 лет ребятишек с собой увозили. Нас, старых, беспощадно заставляли дороги расчищать.
Но мы не особенно спешили им раскапывать. А мы ждали своих, чтобы скорее к нам пришли. Нам было смотреть страшно и смешно, как орды захватчиков в бешенстве отступали. К одной машине подбежит - погоркочит, к другой подбежит - та тоже застряла в снегу, к третьей подбежит - зажигает: вот так они метались по нашим дорогам. Нам они наговорили, что наша армия - все плохо одеты и голодные, а ихняя - хорошо одетая. А жрали они наше добро. Бывало, с двух концов деревни поставят патрулей. Въезжают в деревню и грабят все, что попадёт. И сколько страсти мы пережили! Думается, что если б были каменные нервы - давно полопали. А как жильные-то - и сейчас держатся, только без здоровья. Как у нас остались коровы целы - мы сами удивляемся.
Когда приехала часть в нашу деревню, то они с наших коров ели молоко. Бывало, идут с битонами по деревне. В ково корова - сами доят и забирают молоко. А коров, все говорили, ваших будем резать на последнюю котлету.
Но им некогда стало наших коров порезать. А другой части они не давали наших коров, пока ограбят. Вот так у нас осталось 11 коров колхозницких. 19 января 43 года зажгли наш район -Уваровку Московской области. И вокруг все деревни зажгли. Нашу деревню на 20-е зажгли. Вот эта ночь мне и нам всем будет в памяти до гроба. С 19 по 20-ое мы еще не горели, но матались - сами не знали, за что взяться. Вот настала темнота, ночь. А кругом бушует пламя, горят деревни, магазины, школы, колхозные дворы, амбары. Все добро горит: злодеев вдохновляет дым нашего добра. Пламя стонет, ухает кругом. Люди не плачут: окаменели от страху и переживаний.
Мы за ночь спрятали своих коров, угнали с деревни на поля. У нас на поле уцелел один стох (Стох - стог). За стох, какие - в речку за кусты спрятали.
Утром пришла бригада немцев 12 человек с бидончиками бензина и обливали. В самом проходе в дверях сеней или двора положат клок сена, обольют стены бензином и поджигают. И поджигали у нас почти все финны. А немцы стояли как стража, пока не займется вся стройка огнем: чтобы не затушили мы. Потом - к другому дому: так поджигают. И вот последний дом зажгли и ушли. Но мы его сумели затушить. Вот в этот дом все старые и малые вошли ночевать. А взрослым не спится. Мы всю ночь шлялись по пожарищу.
На утро собрались мы, деревенские жители: пошли искать себе продуктов по пожарищу. У кого капуста была в бочке -осталось кучечкой, так же и соль, и картошка. К этой кучке картошки печёной мы подошли: кто сел на пепелище, кто стоял. И начали завтракать эту печёную картошку. Это был наш общий обед с огарками, слезами.
Позавтракали - разошлись: кто ямочку стал рыть себе на землянку, пока не замёрзла земля. А мороз был ту зиму 40 градусов.
Когда сгрузили в этот дом со всей деревни стариков, детей и больных - там было так, как селёдки в бочке. Всех было 38 семей. Но семьи были не полностью: у кого два человека, у кого один. Многие ночевали на панели, еще пока не остыла земля.
И вот трое суток прошло, как мы попрятали коров в снегу. Послали ребятишек посмотреть коров: живы ли они или поморозились? А 11 коров были вместе и все живы. Около стога одна отелилась - и теленок живой - бычок. И не обморожен. Он стоял в кругу коров, и коровы на него дышали, чтобы ему было тепло.
Вот оттуда мчится ребятня с радостью, что наши коровы живы и невредимы. И вдруг остановились: смотрят - по дороге от села Вешки едут на возочке и два верховых. Ребятня что есть сил припустились бежать. Вбегают в дом, где было так тесно, что пальца не воткнёшь. Но ребятня на пороге закричала: «Ой, за нашими коровами едут немцы!» Но мы уже не пугались, потому что у нас только остались одни коровы, которых мы сумели спрятать до сих пор. Ну, что поделаешь? Мы вышли почти все из дома, ждем - опять переполох. И детвора бежит назад, но не бежит, а летит и орет во все горло: «Это наши, это наша разведка едет!». Вот уж эту встречу никогда не забудем: и не расскажешь без слез - они, слезы, у тебя сами потекут.
Я, когда писала эти слова, у меня как град сыпались слезы. Потому что возбуждаешь и вспоминаешь самое тяжелое время.
Вот пошли мы встречать наших. А кто не мог идти, то на четвереньках пополз: только встретить своих и посмотреть на них, какие они есть. Вот встретились мы со своими дорогими разведчиками: все такие хорошие. Они нас всех расцеловали и разделили свой пай нам всем. А мы все грязные и мазанные. От огня, слез и от бессонницы. И вшей немало было: все зудело - и тело и душа.
Вот пришли к дому. Они нам рассказали про нашу армию, где она. Они сказали, что через два часа увидите свою армию, какая она есть. Вот уж нам полегчало. На душе как камень пудовой скатился с груди. А ребятня побежала встречать армию.
И действительно, встретили армию. Душа отлегнула на них посмотреть: все тепло одеты, в валенках, шинели новенькие, плащи белоснежные. Наверху одеты шапки новенькие и каски. Они как поравнялись с нами возле дома и видят, в каком мы положении - вот кулаками грозят, зубами скрипят. Одни говорят: «Отомстим за родителей!» Другие говорят: «Отомстим за детей и жену!» Третьи говорят: «Отомстим за все, что сделали варвары, паразиты! Сколько заставили нашего мирного народа страдать!»
Они постояли с нами час. У кого что было в сумочках - они нам отдали продукты. Мы хотя бы чем угостили, нам нечем: картошка печеная в кучке - на пожарище - и та уже одеревенела. Но мы сказали, что у нас есть спрятанleftные коровы 11 штук и новоотеленный бычок. Если вам нужно - то берите, они стоят за стогом, ребятня вам покажет.
Армия нас поблагодарила, что мы спрятали коров и чутко, не жалея, отдаём своим. Армия распрощалась с нами и ушли под г. Гжатск. И в Паленинове в деревнях как остановились — так долго здесь стояли. Нашим было очень неудобное место - все как на ладони видно. А немец - за лес в горах, зараза, укрепился. Тут наших много погибло. А потом додумались, чтобы нас эвакуировать и зайти в обход, да дать ему как следует. Вот с 21 января и по 25 октября через нас летели все снаряды и бомбы на Уваровку. Последняя станция была наша Уваровка. Как только поезд придёт из Москвы - как начнет пускать снаряды с 8 часов вечера и до 10 утра.
Он, паразит, зажигал наши поля с хлебом и стога. Было так: берешь серп, косу и лопатку, чтобы было чем перекопать огонь, когда зажжёт нежатый хлеб. А так видишь, что летят самолеты с бомбами и начнут пускать, то ямочку выроешь, голову вторнишь в ямку и смотришь: куда направление бомб. Много наших поубивало.
Вот пролетят эти коршуны - вылезешь, начинаешь косить или жать. А то - бросил зажигательную бомбу - прямо угадал к нам на стох. А мы как раз на себе носили снопы, складывали в стох. Стох только половина сгорел, а половина мы растыкали и затушили землей. За это время мы так привыкли к бомбежке, будто так и надо - и не страшно.
Мы не собирались жить - каждую минуту ждали смерти. И дожили до 25 октября.
Нам дали приказ, чтобы нас эвакуировать - весь наш Уваровский район в Рузовский район, чтобы нашей армии было где развернуться. С собой вещей только разрешали брать шесть пудов на душу. А осень - на зиму собрали картошки , капусты, хлеба, сена на коров накосили. Коровы остались у нас. Вот нас и назначили в такой колхоз, где было сено и скотный двор для наших коров и для колхозных.
У нас было колхозных коров 22 штуки и наших 11. Когда мы здесь сдали сено воинской части, а там мы должны получить, нам было предупреждение, чтобы мы все продукты сдавали воинской части. Конечно, у кого были мужики не взяты на фронт, те не слушались, а стали зарывать свои продукты - картошку, капусту, свеклу. И даже хлеб зарывали. Я свои продукты не зарывала, я сама не могла, а нанять - он будет знать, где моя яма, он сам и выроет. То я решила сдать все начисто свои продукты воинской части. Тогда зашёл ко мне старшина и говорит : «Глинкина, разумно делаешь, что сдаешь свой продукт воинским частям. Я не уверяю, что ты полностью получишь, а половину - уверяю, что ты получишь свои продукты. А кто зарывает - тот не получит». Старшина описал, сколько у меня картошки, капусты, свеклы и моркови - это все вместе 50 пудов. Овса 5 пудов, гороха пуд, ржи - 6 пудов. На одну бумажку списали, потом на вторую. Пошли к председателю колхоза. Заверили одну бумажку - я взяла себе. Вторая осталась у Председателя.
Я свой документ спрятала около себя. Как раз было нам последнее собрание, чтобы были мы все собраны, наготове. Когда придут подводы - чтобы не задерживать подвод. Когда стали расходиться люди с собрания, меня многие задержали, стали спрашивать: «Правда ли, что ты все подчистую сдала продукты воинской части?» Я ответила, что все сдала, и в мой погреб уже старшина ссыпает картошку. Кто сдавал 5 пудов, кто и больше. Больше 10 никто не сдавал, а меня многие мужики и женщины обзывали дурой: «Вот дура, ошалела, все сдала подчистую! Что же ты будешь есть, как вернемся с эвакуации домой?» У меня, правда, как окаменело сердце. Тут мне нагнали тошноты соседи. Я только ответила: «Не говорите обо мне. Если у вас будут продукты, то я у вас куплю». У меня не семья - я да отец, 94 года ему было.
Так уехал народ, мы же окаменели: закалились терпеть, плакать - ни кто не плачет. А немец, паразит, так и ладит бомбить над эшелоном, когда нас отвозили.
9 октября нас довезли до станции Дорохово. Нас садили весь наш район, загрузили нами все Дорохово. Детей и стариков стали развозить вперед, а нам пришлось под открытым небом пожить на станции Дорохово 15 дней. Ночью костер нельзя было зажигать, а днем палили костры - варили себе в кого что есть - семейные. А я была одна - старика увезли. Меня не допускают даже погреться. Конечно, я там не одна такая была.
Старика моего увезли разом с детьми в ту деревню, в которую нас назначили. Скот наш погнали вперед. Нас сразу пускали жители хотя обогреться, а потом перестали пускать, так и говорят: «Где вас всех обогреешь? Вы нам уже надоели!» Бывало, портянки перевернешь мокрые - сухие на ступню, так и грелись. Обидно было слушать от тех, у кого остался дом, не сгорел. И он в своем углу никому не надоел. А мы - как будто не такие люди и по своей воле надоедаем другим. Вот в такие тяжёлые минуты и есть люди несознательные! Спасибо генералу или полковнику - проезжал эту станцию и увидел, сколько здесь сгружено народу. Немедленно дал приказ развести нас по местам - куда кого назначили.
А старика моего никто не хотел принимать в той деревне: он был тяжёлый и вшей было с достатком. А кому хотелось чужую грязь огребать? Бригадир и Председатель колхоза торговались между собой, куда его определить. А старуха крепкая поселилась у Председателя. Она им и скажи: «Старика возьмите! А то за ним едет дочка, она вам закон укажет: она боевая. И не торгуйтесь!» Так бригадир взяла его к себе: вымыла, дали белье переодеть. И дали ему место на лежанке, около печи, что и нужно было старику.
Когда привезли нас в деревню, я первая осведомилась: «Где мой отец и где корова?» Коровы были в общем табуне на скотном дворе. А отец у бригадира.
Хозяева нас встретили очень хорошо: покормили, чаем теплым напоили. Одним словом, встретили, как гостей, приняли к себе в дом. И тут же мне стала бригадир рассказывать, что мы тебя ждали больше всех: как напугала ваша бабка. Я засмеялась и говорю: «Неужели я страшней всех? Чего меня бояться? Я человек артельный, не гордый, люблю общественное дело. Со мной можно про все говорить и поделиться на все. Вот какой я человек. Чтобы вы меня не пугались, я вам объяснила».
Предколхозу и бригадиру сразу я понравилась. И мы впоследствии сдружились, сколько я у них прожила.
В эти сутки отец услыхал мой голос, когда я подъехала к дому. Я вижу: стоит у окна и тут же выходит из деревни с палочкой. И дрожащим голосом проговорил, и за шею меня обнял: «Доченька моя милая, защитница ты моя! Я думал и все плакал, что тебя уже нет в живых за это время!» И сам так сильно плачет у меня на плече. Уговорила, успокоила, что мы теперь будем здесь жить, покуда нам скажут. Но он уже немножко переходил в детство от старости и от переживанья.
Удивительно: когда зажгли наш дом, он кинулся прямо в огонь и хотел сгореть на старости лет. Но я его вытащила из огня. Уже весь ватник на нем загорелся. Я раздела ватник - и в снег его втоптала. Ватник перестал гореть. Я обратно одела ему этот ватник. И он ушёл в деревню, которая сгорела. Я стала искать отца - и не нашла его. Все сказали, что он точно сгорел. Я все пепелища обошла, искала его костей - и тоже не нашла. Думалось, что горя не переживём. А отец что надумал? - пошёл пешком в Москву, в горелом своем ватнике. И как прошёл два фронта? Никто его не затронул - ни пуля, ни бомба, ни стража - к той маленькой дочке Нюре. Он знал, где она жила.
Вот он прожил в Москве до половины мая. Вот стала ходить вновь почта из Москвы. Я получаю письмо - Нюра пишет, что отец у нее и хочет обратно ко мне. Я ответила: «Не пускай! Пусть у тебя поживёт, раз он живой остался. Ты дальше от фронта, а мы еще в огне».
Вот Нюра была на работе, и ему вздумалось домой - взял и обратно пошёл пешком. И вот 16 мая пришёл ко мне, а я жила на погребице, вот еще горе: ему не погреться, одежи нет, нечем одеться. А тогда очень шли дожди. Днем сидит, палит огонек, греется. А ночью просто беда была с ним. Так у сестры не остался и пришёл ко мне. И мне пришлось с ним возиться по чужим углам.
К вечеру наша хозяйка затопила печку: не жарко топила, а только подогрела. И нагрела воды два чугуна. Вот, предложила: «Лезь в печку!» Подстелила в печку соломки, побрызгала по бокам водою, нагнала пару как в бане. И полезла первая сама - показать, как парятся в печке. А я сроду не парилась в печке и не знаю обряда. Вот и я залезла в печку. Как я там хорошо напарилась, разогрелась и вшей всех запарила! Потом вылезла из печки в корыте обмылась - вот где я спокойно уснула в эту ночь: вшей забросила, бомбежки в эту ночь не слыхала, снаряды тоже не летели. Филипповская ночь - она мне была мала. Я проснулась в 11 часов дня, легла в 6 часов вечера. Спасибо хозяйке: накормила старика и корову.
Я вчера перевела корову к себе. Вот после мы начали жить в этом колхозе. Бригадир - молодая моя хозяйка Матрёна Яковлевна - стала назначать самую первую на работу. А потом и всех. У них еще много было колхозной работы - молодьба, и не мят был лен. Вот мы им стали помогать работать: рожь помолотили, пшеницу. Потом взялись за лен - мять и трепать -вот я тут тоже всех обгоняла на трёпке. Лен был не хороший, а средний. Первый день мы пошли трепать - а мы ведь не с одной нашей деревни, а с других деревень были, мы еще не знали один другого, но на работе познакомились. Трепали целый день. Я спробовала шутки: три анекдоты рассказала. Я рассказываю, а руки у меня дело делают. А некоторые умаялись до упаду - и руки опускались от смеха.
Вечером стала кладовщик принимать лен - кто сколько натрепал? - от четырех кило и до 18 кило. Самая высшая натрепала 18 килограмм - я и еще одна натрепала 15 килограмм. Вот опять все зашумели, что много натрепала: «Верно, лен нечистый!» Вот положили мой лен и других - кто натрепал у 4,6 кило — и тот окозался кастривый, и горстка сбита, как хлыстик, а моя горстка - пушистая, длинная. Надо знать, как бить трипашкой по горсти: можно бить по горстки - и всю собьёшь. И можно бить, а больше вытрисать, приглаживать - вот так не собьёшь горсть. И будет хорошее качество. На второй день стали мне подбрасывать горсти, что я много натреплю и много хлеба получу. «А она, - говорят, - почти одна. А у нас — семьи, нам надо больше заработать». Ну, я не стала спорить: пусть так. Я засмеялась - и на одну беженку, еще с той войны она у нас прижилась и тоже боевая, градинская. Звать - Галина. Говорю: «Кто первый сегодня будет рассказывать анекдоты?» Она говорит: «Давай - я начну, а ты закончишь». Ну, хорошо, договорились.
Опять такая история. Которая больше всех кричала, и ей нужно больше всех хлеба - а руки у ней опускаются от смеха.
Вечером за мной все стали следить: на вид большие у меня две вязанки. Стали вешать самых первых наш лен - мой и той тетки, у той навешали 17 кило. А у меня с плохих горстей - 21 кило. Опять зашумели: «У ней черт в руках! А потом - она нас рассмешит, мы весь день киснем, смеемся. А она не смеется и нас всех обгоняет». Предколхоза Мария Шустрова и Матрена Яковлевна - они не хотят отдалять меня от трепки: им надо скорей смять и отрепать, и сдать лен на пункт - время военное. Но вечером пришла к нам Председатель к бригадиру наряд давать - и по душам со мной поговорили: «Да вот, мы боялись тебя, когда ждали твоего приезда. Действительно, тебя нельзя бояться, а тобой можно радоваться. С тобой, видно, нигде не пропадёшь, ни в работе, ни в походе! Теперь ты у нас останешься, мы тебя не пустим - у нас будешь жить!» Я ответила: «Там видно будет».
«А как же, завтра выходить трепать?» - «Выходи, нам что быстрей обработаем, то лучше. А которые кричат, так пусть не кричат, а побольше треплют да учатся, как ты трепишь. Мы тоже около тебя дивимся: как будто ты и не спешишь трепать, а ловко у тебя выходит». Я говорю: «Как я трепала - была помоложе, то три раза по столько! А это что - только частичка!» Они говорят: «У нас была ударница Сашка, натряповала по 15, по 16 килограмм. А ты - вот как машина! На все, видно, ловкая».
Вот закончили лен молотьбу, получили мы по три кило на эти маленькие дни. Нас рассчитала Председатель, как мы — нуждающиеся во всем. И мне досталось хлеба - 6 пудов, три - ржи, три - пшеницы. Картошки я не покупала. Свеклы тоже не ела. Молока и хлеб - и все.
Прожили мы до февраля, и наши люди стали подъедать свои продукты: у кого семьи большие. И покупать очень дорого было: ведро картошки - 300 рублей, ведро свеколки было -200 руб. Молоко литр - 50 рублей, соль стакан - 70 рублей.
Я сдала воинской части соли три пуда, а сама покупала стаканами по 70 рублей. Меня, как семья малая и к тому подработала в том колхозе 6 пудов - три ржи, три пшеницы: я еще тянула. А были семьи - совсем голодали. Были такие случаи, что за два ведра картошки променивали хорошее женское пальто.
Старых жителей Рузского района не все деревни были сожжены. Некоторые люди там в то время обогатели - они картошку, свеклу, капусту, хлеб все меняли на вещи, мануфактуру.
Где я жила, там была свекровь и сноха, они меняли по-очереди: раз - одной, раз - другой. И наменяли по полтораста метров мануфактуры.
Конечно, я бы не знала, если бы не пришёл случай испуга. Как раз шли дивизии с Волоколамска на Новую Рузу. И одна дивизия заблудилась на эту деревню: пошла, где мы жили, немножко взяла правей. Командир в деревне создал панику. Это было рано утром, в начале февраля: и дивизия отступают, и нас будут эвакуировать. Прибегает с деревни сноха: она как бригадир ходила наряд раздавать и просто рассказывает свекрови. Так свекровь бросила печку топить, заохала: «А что теперь будет!» А я стою среди кухни, да и говорю: «А что мы делали, как эвакуировались: бросили все и уехали. А что сдали воинской части. Так и вы сделайте: все сдайте».
У них много было хлеба: они два кило получили на трудодень. И опять подовторила, что у вас с радостью возьмут хлеб в воинскую часть. И горевать не о чем. А я теперь сдам одну корову - и чиста и спокойна буду. У нас уже всередке все перегорело, больше нечему гореть. Пусть хотя сейчас поеду, куда укажут ехать! Или повезут. А свекровь заголосила голосом: «Что делать?» И завет меня: «Аграфена Ивановна, иди посмотри!» - открыла мне один сундук: он полный мануфактуры. Второй такой полный. Я даже сама ужаснулась: «Надо ж столько копить, да еще в военное время!» Но дивизия прошла, все успокоилось, все остались на местах. И главное, что мануфактура бабкина осталась на месте. Вот заметьте: что более богат человек, то всегда скупей и жадней на все. Вот эта самая свекровь - бабка Степанида. Она думала, что я навалюсь на ихнию свеколку или капусту. А картошку они сами не ели, а все меняли: картошка уже, как известно, в сундуке выменена лежит. С первых дней моей жизни, как я у них поселилась, у меня продуктов с собой не было - одна корова и 6 пудов хлеба. Она, бывало, на свою семью шесть душ напарит: два чугуна, по ведру свеколки, и так - пареную едят с хлебом. А на первое варила щи, на второе была вот пареная свеколка.
Вот неделю я прожила у них. Она все старалась прятать от меня эту свеколку. Она думала, что я у них буду просить и задаром буду кушать. Но я - не такой человек.
Вообще, я не жадная. И к этому же пережито за войну у меня много: я же потеряла семью, потеряла свое все, что было нажитое, имущество. И потеряла свой угол. А в чужом угле и чужим людям не надоедала: у меня еще доилась корова. Я хлебушка кусочек отломлю и стакан молока - и мой обед, и завтрак, и ужин был с одного блюда.
Степанида моя немного стала успокаиваться, перестала прятать свеколку, а стала мне предлагать: мол, покушай свеколки! Я категорически отказывалась - свеколку я не кушаю, спасибо. А сноха Матрёна Яковлевна - совсем была другой человек, добрая, не жадная.
У снохи были малые дети: мальчик Толя - 4 годика и девочка Маня - два годика. Вот эти дети перешли со мной обедать, завтракать и ужинать. А у нас был порядок - сперва они позавтракают, а потом уж я. Вот дети перестали кушать свеколку и щи, не садятся с ними обедать, а встанут около стола и ждут, покамест я начну кушать свой хлеб и молоко.
Но я с первого обеда их приучила к себе. Я наливаю четыре стакана молока: всем по стакану - им и себе. Степаниде-бабке это было нож по сердцу, что им надо чего-то мне за молоко платить. Она уж ребятишек и била, и ругала. Но как их отучить от молока? Мать видит, что не отучишь. И только один скандал с ребятишками.
Я говорю: «Матрёна Яковлевна, брось - не ругай детей, пусть со мной едят! У меня уже не настолько пропало, а это - ерунда». Дети даже не хотят свой хлеб брать кушать, а дай мой - мой вкусней.
Мать со мной стала договариваться от свекрови, чтобы украдкой давать мне картошку и муку. Вот, бывало, наберет мне ведро картошки и кило 6 муки, даст, когда Степаниды нет дома, и скажет: «На тебе, за детей. Только скажи, что где-нибудь купила. А тогда скандала будет меньше со свекровей. Так мы с Матрёной Яковлевной и улаживали.
Вот еще интересно - про двух старух, тоже жадных. Я немножко опишу.
Нам выдали хлеб - Председатель Шустрова - который мы в них заработали. Она дала нам коня: свез на мельницу Увалынщину свои клумки. Мы туда свезли смолоть. Нам сказали: через неделю - много было завоза на мельницу, так как она одна была на весь Рузской район. Да и воинским частям мололи.
Вот мы пошли через неделю. Молоть - пешком человек 12 нас, эвакуированных. Лошадь не захотели брать - может, еще не смелим.
Вот идем по деревням. Деревни там не были сожжены, все жили в своих домах. Переживали они, по всему видно, меньше нас.
Приходу было до мельницы километров 10, а может и больше, мы шли - замучились. И захотелось нам попить. Подходим к деревне. Зашли в первый дом, спросили напиться. Нам ответила старуха: я для вас воду не носила! Мы просим: «Дай нам ведро или кружку. Мы напьёмся и тебе принесем ведро с водой». А ручеек бежит из ключа незамерший, только надуло много снега на берега.
Бабка нам не дала ни видра, ни кружки - и даже на нас заругалась: да эвакуированных надо было давно подушить, чтоб они нам не надоедали! А не то - им дать ведро или кружку попить!
Нам стало обидно слушать такие слова от своих людей. Мы стали ей давать пример: «Что, бабка, если бы тебя сожгли - все имущество и дом твой - и потом тебя эвакуировали - и ты бы попросила водицы попить, а тебе отказали и оскорбили - каково тебе было бы терпеть и переживать? Эх ты, без чувств человеческих! А старый уже человек. Может, завтра умрешь! Мы будем назад идти - и ты будешь на лавке лежать. А мы тебе только дадим проклятия за твою бессовестную совесть. У тебя еще и дом, и коза на дворе, куры!» И мы уходим. А Галинка эта и скажи: «А ей так не пройдет, у ней к завтрему или коза сдохнет, или сама умрет! И пошли. Дошли до ручейка, стали оттаивать снег и доставать руками воду - и пить. Вода теплая, мягкая, как комнатная. Мы пьем - видим, бежит эта бабка, несет нам кружку - нате! Мы рукой махнули: «Не надо, мы напились!»
Вот пришли на мельницу. Нам сказал мельник, что завтра утром ваши клумки помелим. Где же ночевать? Деревня от мельницы - километр. Мы пошли проситься у первого дома. Нам отвечают: «А дров принесёте? Обогреть вас надо!»
Мы соглашались: «Принесём! Только укажите, куда идти за дровами!» Эвакуированные ничего не боятся: через нас бомбы, снаряды летали - и то живы остались. Мы домов пять обошли - и никто не пускает нас переночевать. Выходим почти у последнего дома впереди, один дом остается. Мы входим, а самавар кипит и шибко гремит труба. Я говорю: вот самовар что-то гремит, как поезд. А градинка Галина говорит: «Это не к добру гремит, а к убытку!»
Я на Галину говорю: «А ну, да приговоришь — а что случится?» Она: «Черт с ними! У них то не случилось, что у нас случилось!» Вышли на улицу и стоим.
У колодца стоит женщина - берет воду. Спрашивает у нас: «Эй, гражданки, куда путь держите?» Мы отвечаем: «Да какой путь? Всю деревню обошли, никто на ночь не пускает» Она отвечает: «И не пустят. Это не люди, а изверги. Идите ко мне. Только у меня - старик и две внучки, девчонки лет пяти и четырех. Но как-нибудь переночуем. Я сама эвакуированная и приютилась в дочкином домике - вот и живу пока. А дочка работает - вот вяжет носки, варежки бойцам. И я ей помогаю. А старик у меня - портной». Мы рады, что хотя одна душа нашлась добрая. А уже почти стемнело.
У нее не было наколотых и пиленых дров. Мы взяли пилу, топор: кто пилит, кто колет. Живо натаскали в избу дров. Бабка Мавра затопила маленькую печку, в избе стало тепло. Поставила чайник. Мы обогрелись, напились чаю, хлебушка свой разогрели. Бабка нам налила большую чашку щей. После ужина говорим: «Что будем делать? Ночь большая, надоест лежать!» Мы бабке Мавре предложили: «Давай нам иголки, будем вязать носки, варежки». Она: «С удовольствием, да на всех не хватит иголок». А градинка говорит: «Я буду анекдот рассказывать, да помогать мне будет Глинкина». Договорились, чтобы не спать, пока все по носку не свяжем. Вот работа закипела. И чтобы слова не выбрасывать из анекдота, если попадёт неловкое! Потому - у нас был дедушка. Но он рано лег на койку, одеялом оделся с головой и дух затаил, будто спит. Когда дошло такое слово в анекдоте, что мертвый засмеётся, видим, как одеяло все ходуном ходит, и как дедушка смеется до упаду под одеялом.
Заметила внучка, что дедушка смеется. Указывает бабушке и называет бабку не Мавра, а у ней получается - «бабушка Лярва»: «Бабушка Лярва, а зачем наш дедушка смеется? Он никогда у нас не смиялся!» Бабка внучке ответила: «Это его вот эти хорошие тетеньки рассмешили».
Закончили работу и анекдоты. Связали шесть пар носков, бабке подмогли, и легли спать. Быстро уснули - мы ведь день шли, путешествовали и уже время - ложились спать ровно в 12 часов ночи.
Утром встали. Бабка Мавра вскипятила чайник. Мы по стакану выпили, поблагодарили за ночлег и за все, распрощались - и ушли.
Бабка взяла ведра за водой и проводить нас. Говорит: «Заходите, когда еще будете на мельнице». Приходим этот дом, где гудел самовар. Хозяйка выходит на крыльцо, ругает нас на чем свет стоит, что мы ей нарекли убыток. У них подавилась овца - и вот мы тоже остались виноваты.
Пришли на мельницу. Нам мельник смолол наши клумки. Мы пошли, как говорится, домой, но не домой, а где мы жили - деревня Какавино.
Приходим в деревню. Деревня звалась Воскресенки, где нам бабка не дала кружку напиться. С этого конца идут люди и говорят про пожар, что бабка Авдуся сегодня ночью сгорела - дом, и коза, и куры погорели. Военные приезжали, у ней остановились. Потом уехали - и загорелся дом.
Мы идем, идем: мы же не знаем, какая бабка - Авдуся. Когда вышли в этот конец, смотрим - этот дом сгорел. Одни только головешки валяются. Градинка наша говорит: «А где же бабка жадная? Вот теперь бы ее увидеть и попросить у нее попить! Хорошо ей, как мы скитаемся по белому свету!» Как по разговору деревенских, она и с военными так обошлась, как с нами. Вот и молодцы, что ей спички подторнули: мол, сознай, что есть на свете война.
Мы проходили мимо пожарища и все сказали, что ей так и надо.
Часть 17
В конце февраля нам приходят документы полностью: кто сколько сдал продуктов. Мы все обрадовались, кто сдал. А кто зарыл - того ямы отрыли бойцы и забрали продукты в части - по приказанию старшины. Он знал, кто зарывал, а кто сдавал.
Конечно, моя цифра была больше всех. Мне пришлось получить 150 картошки пудов. Там так и ахнули жители, говорят: «Что ты будешь делать с продуктами?» Я ответила: «Ничего, что-либо соображу, чего делать». Я договорила предколхоза, чтобы они мне перевезли, где я жила. У них был хороший подвал. За перевозку должна я уплатить колхозу полторы тысячи, так мы договорились. В тот же день приносит почта новые документы: получить зерном с Рузского пункта за три кило овощей - кило зерна. Для меня это еще лучше, меньше груза. Вот нас вызвали всех эвакуированных в Рузовский комитет заготовок. Зав Комитета Лунев сделал нам доклад и стал зачитывать, кто сколько сдал продуктов и кому сколько получить. И вышло то, что больше меня никто не сдал воинской части изо всех наших эвакуированных.
Вот собралось полное народу помещение. Лунев вызывает меня первую к столу расписаться, сколько пудов мне приходится получить чистосортного зерна с Рузского пункта. Лунев стал на возвышенное место, поставил меня возле себя и проговорил речь : «Товарищи эвакуированные! Вот посмотрите на эту гражданку, товарища Глинкину, как она честно и добросовестно отнеслась к нашей доблестной Красной Армии. Она ни одного килограмма не зарыла в землю, а сдала весь свой продукт нашей доблестной Красной Армии. Ей большая благодарность от нас всех!» И похлопали в ладошки. «А теперь она получает ржи 35 пудов чистосортной с нашего Рузского пункта и теперь, может, кому и завидно, как она получит хлебушек. А у того товарища, кто зарыл, продукты мыши съели. Он сам не съел - и Армии не дал. Один только убыток. Вот, товарищи, как бывает - государство никогда не обманешь!» Я только получила хлеб, как ко мне приезжает тот самый старшина, которому мы сдавали продукты. Просит у меня одолжить хлеба: «А когда поедете домой, то моя часть поедет в ваш район и может тебя подвезти со стариком. Тебе поездом хуже будет ехать!» Ну что ж, меня долго не пришлось уговаривать. Я согласилась отдать 25 пудов старшине, а 10 оставила себе. Все мне легче будет с ними таскаться. Написал старшина мне документ, и я положила свой «хлеб» в карман. И опять мой хлебушка пошёл бойцам. Ну, пусть на здоровье кушают - и мой там муж и старший сынок.
От сынка мне не было слуха 11 месяцев. Потом прислал розыскное письмо - где мы? Но мне письмо передали. Сынок пишет: «Жив, нахожусь а Германии, два раза ранен». С того времени стала иметь переписку.
Хозяина тоже тяжело ранили, привезли в Москву в госпиталь. За Крестьянской заставой в школе был госпиталь. Дали мне знать. Я поехала к мужу навестить. Он был слаб. Ему на правой ноге отбило большой палец и от самого бедра ободрало кожу - так и сняли мешком. Яков меня узнал, когда я вошла к нему в палату. Я посидела с ним часа два, и их стали собирать и отправлять в Иркутск. А потом - в малый Удинск, где Яков пролежал 7 месяцев.
С апреля месяца 1943 года нас стали отвозить назад домой. Вот где горюшка набрались люди: самая вода, грязь, холод и голод. На одной станции пришлось посидеть, а потом на другой, а развести некому - воинские части ушли, а в колхозе транспорта нет. На себе пришлось всю тяжбу переносить. Но вещей у эвакуированных почти не было. А самая тяжба - это были дети: у кого их было 7, 9 человек. Ну, как говорится, что своя ноша не тяжела, то это - тяжёлое время, какое прошло в нашей жизни. Вторую такую тяжёлую войну не дай бог дождаться! Тут мое мнение - нужно с последним рублем и с последней рубашкой делиться за оборону страны и за мир во всем мире. Чтобы наши дети, и внуки, и правнуки не видели такой страсти, как видела сама я.
Когда мы вернулись из эвакуации, из 28-ми семей у нас осталось 12 семей. А в семье - 2-3 человека. Я своих выпроводила всех, отвезла на станцию несколько семей. И сперва груз из деревни на лошадях.
Вот долго мне будет помниться, как отвозила я одну семью. Мать с двумя детьми. Отец уже был погибшим на войне. Дали ей кобылку плохенькую, еле на ногах стоит. На крепчайших лошадях уже повезли семьи, а на этой никто не хотел ехать. Вот наш председатель-старичок и говорит: «Аграфена Ивановна, поезжай, отвези Шурку с ребятишками!» Я спрашиваю: «А на ком?» Он ответил: «На Блохе-кобылке». Кличка была - Блоха.
Я отказываться не умела - я согласилась поехать. Запрягла эту нашу Блоху. Положили узелок вещей и двух детей: одному три годика, второму - полтора. Сами под оглобли встали рядом - помогать. Она совсем еле переступает ногами. Отъехали от деревни километра три. А надо до Рузы 9 километров шагать.
Как начал дождь, как из ведра льет! Дорога вся стала под ногами - снег, как каша. Не то ей вести сани, а кобылка своих ног не вытянет из мокрого снега! Мать села на сани, подгарнула своих детей к себе, как курышка. А я рядом веду кобылку: два раза ступит - и встанет. Вот на пути встретились, которые уже отвезли на своих лошадях. В этом колхозе было 6 лошадей хороших. Я стала просить, чтобы дали мне лошадь - переложить своих седоков и довести до Рузы. Встречные уже совсем окоченели, сидя на санях, и все мокрые: не хотят ворочаться. Но одна колхозница согласилась: я тебе свою лошадь не отдам, я за нее отвечаю. А переложим седоков, то - подвезу. А ты как хочешь со своей здыхлей, так и делай - это ваша.
Мы скорее переложили. Она повезла, а я отправилась домой. Мы разъехались. Сани пошли в деревню Коковина, а семья - в Рузу. А я пешком веду свою кобылку.
Вот уже все нас обгоняют, которые повезли семьи. Кабы я одна была, я села бы и подремала. А мне нельзя кобылку бросать. Вот так мы плелись. Я взяла клочок сена у проезжих. И за клочком сена кобылка торопилась шагать. Кое-как дошли мы с кобылкой. Я сдала ее преду, нашему старичку. Он еще тоже не выезжал. А я ждала, когда за мной подъедут военные, как мне обещал старшина.
Вот 4 мая подъехала за мной подвода. Мы усадили старика, привязали корову. Пред Шустрова меня очень уговаривала остаться у них, но я не осталась. И после жалела, что не осталась.
Поехали, привезли меня в Шаликово. Тут как остановились, так до 10 июня простояли: части заканчивали свои работы. «Вот завтра поедем, вот послезавтра!» Так и тянулось время. Поселили меня вместе где военные жили. Старика положили за печкой возле порога. На полу - холод, грязь, он завел еще вшей кучи. Обозрить негде его.
Господи, сколько я слез пролила: думается, ведры вытекли слез! Но пришло время: приходит капитан Опакин и говорит: «Сегодня уедите!»
Ну вот, приехала. Землянка моя была почти развалина. Стала поправлять землянку. Стали браться снова за колхозное хозяйство. Старичок у нас предом - 70 лет ему. Мы ему были помощники. Я была заместитель преда.
Когда забрали у нас немцы всех лошадей, остались у нас два жеребёночка-сосунки. Вот мы их питали, выхаживали. Еще было три бычка. Всем им, нашей тягловой силы, было только полгодика. А пахать надо.
Мы приладили лёгенький плужок и деревянную боронку. Вот пред. Максимов очень жалел жеребяток и бычков. Он предложил мне за ними ухаживать: кормить, поить. Говорит: «Агрипина Ивановна, возьмись выхаживать молодняк! Ты будешь всех понадёжней, и мы их выходим. Они нам помогут и нужны будут везде». Ну, так и договорились. Я согласилась, начала кормить свою молодую тягловую силу. Я сил не жалела за ними ходить. Я в ночь, в полночь ходила - проверяла их, подкладывала им корму, чтобы они быстрее брались за силу.
Когда предсельсовста пришёл собрание проводить, то еще одобрил нас, что у нас имеется тягловая сила. Потом, говорит, можно лопатами подкопать. И надо избрать казначея и двух заседателей в Народный суд. «Кого, кого?» - все отказываются от этих работ. Наш Пред. Максимов предложил Предсельсовета Тужекаву в казначеи Агрипину Глинкину. Я говорю: «Ведь я малограмотная, могу напутать в делах!» А преды оба ответили: «Вот ошибку можно на ходу исправить, только нужна честность. А за честность мы ручаемся за тебя!» Так в эту работу я прошла, проработала три года казначеем. А потом вернулись из Красной Армии инвалиды, подменили меня. Также и в заседатели я прошла - первая, и вторая - Грибова Анна, и мы заседателями проработали с 43 по 47 год. Нас сменили.
Вот я проработала 5 лет. Выехали мы пахать в 1943 году. Двенадцать человек с лопатами вышли, и пару жеребяток запрягли в плуг - и стали пахать.
На первый год мы 12 гектаров вспахали под яровой посев. Семена носили на себе со станции: дало государство. И с каждым годом увеличивали посев площади, воинское подсобное хозяйство.
Нам дали две раненых лошади. Лошади работали хорошо. И взаимно - мы им работали людьми, они нам лошадями. Вот, косили нам военные лошади, частичку молотили яровое. А рожь мы сами обмолотили. В привод запрягали бычков. Если им тяжело - то мы, бабенки, беремся в привод и помогаем бычкам вращать молотилку. И все же дело шло у нас, несмотря, что вручную работали. В 1944 году присылает мой Яшка из госпиталя письмо: обещается прийти домой. Конечно, для меня это была великая радость. Я дождалась его: 8 января пришёл ко мне в землянку. Конечно, на костылях: год не мог ходить без костылей. А потом стал крепнуть, стал ходить без костылей, только прихрамывает.
А вот 9 мая 1945 года мы рано утром вышли разнашивать навоз на носилках. Нас было 12 человек. Носили с самого утра, спешили, не отдыхали, как чувствовали в душе радость. И видим, идет к нам почтовый разносчик. Мы говорим: «Вон идет почта к нам, может, чего нового нам несет. Тогда и отдохнём!» И она не дошла до нас ста метров, как во весь дух закричала: «Наша победа, победа!» Мы бросили носилки и побежали к ней на встречу: может мы ослушались, нет победы? Вот уж тут не расскажешь эту радость без слез: какая была радость нам и всему советскому народу.
Пришёл к нам Предколхоза и сказал, чтобы после обеда не работать. Будем праздновать нашу великую победу!
И в этот день к нам пришёл трактор на дальние поля от деревни. И нужно было его сторожить. Председатель говорит: «Кто добровольно согласиться трактор сторожить?» А кому охота в такой праздник сторожить? Тут засокатали бабье: «Я не пойду, я не пойду!» Я молчала.
Председатель на меня взглянул и говорит: «У меня есть только один надежный человек, что ни в чем не откажет». И говорит: «Аграфена Ивановна, сходи, посторожи трактор! Хотя и жалко, что ты не будешь участвовать. Но зато моя душа будет спокойна, что у меня будет сторож надёжный!» Я пришла домой, пообедала, хотя это уже не обед был, а полуден. Хозяину своему сказала, что я пойду сторожить трактор на дальние поля. Оделась потеплее - и пошла к трактору. На душе была великая радость, что как будто я не сторожить иду, а в веселый колхозный клуб иду.
Вот пришла к трактору, осмотрела его, где что лежит. И села возле стальной лошади. Мне нисколько не страшно было, что я сижу одна на отдалённом поле, и рядом - большой темный лес. Мне, наоборот, было весело слушать перелет птичек, пение тетеревов и песню соловья.
Вот под трель соловья я подпевала вполголоса частушки:
Соловей мой, соловей, ты мне кудерьки завей!
Не позволю соловью: сам я кудерьки завью.
Потом вторую:
Соловей мой, соловей - маленькая пташечка,
Расскажи-ка соловей, где живет малашечка?
Соловей мой, соловей, маленький утеночек.
Расскажи-ка соловей, где живет миленочек?
Ночь была светлая, теплая - и на душе весело. Я встала, обошла вокруг трактора: все в порядке! У меня было настроение: хоть пляши или танцуй.
Я пропела частушку про краковяк:
Ехал Грека через реку.
Увидел Грека - в реке рак.
Сунул Грека руку в реку.
Рак за руку Грека - цап!
Немец, русский и поляк - все танцуют краковяк.
Ну, конечно, немцу было не до краковяка. Потом запела:
Долина, долиница, долина широкая.
Эй, на той на долинушке ничего не родится.
Ни грибки, ни ягодки, ни черная смородина.
Только уродилась калина червонная.
Эй, на той на калинице сидел ясный сокол.
Голосочком крякает, крылышком помахивает.
На этой на далинице, между той калиницы
Гулял добрый молодец, с конем разговаривал:
«А коня мой, коничек, конь мой вороничек
Эй, дружечек мой верьненкой.
Нам лежит дороженька - дальняя, широкая.
За темными лесами, лесами дремучими.
Эй, а там стоят терема, терема богатые,
А в них живет девица - Елена прекрасная.
Нам эту Аленушку нужно увести с гордостью,
Ничем невредимую - пану юродивому.
Эй, пану юродивому.
Не успела я допеть песню, как пришёл ко мне председатель с трактористом. И принёс мне четвертиночку белого вина и закуски праздничной - с полкило телятины. И председатель такой довольный, что все в порядке с трактором, никто не вынул части с трактора. А в то время был их недостаток: глядишь, не углядишь части - их не хватает. И председатель сказал мне: «Отдыхай до обеда!»
После обеда я вышла на работу. После обеда мы сеяли картошку. Посадили, кончили работу, идем домой.
Не дошла я до своей землянки, как мне нашлась работа: ехать в милицию скрозь ночь. На маленьком жеребочке. Никому председатель не доверял, кроме себя - и на меня надеялся, как на себя. А у нас неделю тому назад пропала девушка. Она была горбатенькая. И когда они ругались в семье со снохой, она часто обещалась утопиться или повеситься. Ну так, видимо, и пришлось.
Но она бросилась в колодец, который был загружен всяким ломьем. Но она провалилась под этот лом и утопилась. А на всякий случай она хотела попугать сноху и мать. А утонула вправду.
И председатель наш, старичок Максимов, посылает меня в район за милицией.
Район был от нас километров 15 - в деревне Сукониково. Я сказала Яшке своему, что еду в район по делу. А он почти еще не ходил и больше лежал. Да сидел над окошечком своей землянки и смотрел, откуда я буду идти с работы домой.
Я запрягла молодочку, села, поехала. Уже наступал вечер. Дело было в конце марта и начался сильный дождь. А я надела шубу. Вся смокла, как с реки была вытянута. Ехала шагом, рысью мне не приказано было ехать, а то замучится жеребочка. Но я так и ехала.
Меня сколько раз пограничники останавливали, спрашивали, куда еду ночью. Но у меня была бумажка от Преда, куда еду. Приехала туда, дала лошадке отдохнуть. Доложила дежурному начальнику.
Сами они не поехали, а дали отношение - хоронить без милиции. Я вышла, подобрала сено, подтянула через седельник и сажусь на сани. А милиционер мне говорит: «Ночью не боишься ехать?» Я ответила: «А кого боятся? Мы же все страсти пережили. Теперь некого бояться! А впрочем, раз умирать - два не будешь!» И еду, лежу на боку.
Не доехавши три километра до своей деревни, моя лошадка стала топырится, уши поставила дыбором и смотрит вокруг. Я встала, слезла с саней, осмотрелась кругом. Нет никого. Выбрала гривы с хомута и поправила седелку, шлею - все осмотрела, все было в порядке, и обратно легла на бочек в сани, я прозябла: всю ночь шёл дождь, было свежо. Я стала греться, начала петь:
Ах ты степь, ты степь, степь широкая!
А у этой степи замерзал ямщик.
Не успела я допеть песню, как в галоп подхватила моя лошадка - и в соседнюю деревню вбежала прямо к колхозному двору. Там вышел сторож, узнала меня. Я стала рассказывать, как моя лошадка подхватила. А сторож была женщина. «Вон, посмотри, чего твоя лошадка подхватила! Вон идут два волка - прямо к нам!» Мы стали тукать на них: «Куда, лешие, претесь?» Они остановились, неспеша повернули и пошли в кусты, к речке. И уже стало утреть. На востоке загорелась заря. Я немного постояла с этим сторожем, пока расцветет: чтобы не догнали меня волки. Хотя до дому было ехать один километр. Приехала - уже было светло.
Лошадку сдала Преду в порядке. Домой прихожу - хозяин мой совсем меня заждался. Он еще сам не мог топить печку и боялся за меня: как бы чего не случилось ночью со мной.
В 1946 году мой хозяин стал ходить без тостылей, немного окреп. И от Правительства было дано распоряжение, что пострадавшим и военным семьям давали лес бесплатно на стройку. Это тоже для нас всех была великая радость и большая благодарность нашему Правительству. За такую помощь для нас, всех пострадавших. Вот мы взяли, наняли человека и вырезали себе лес на домик - девять на девять аршин. И начали его строить не сразу, а понемножку. И за три года выстроили мы себе домик из трех комнат.
В 1948 году, 25 октября мы перешли из землянки в хороший небольшой уютный домик: горит электричество, говорит радио. Как же не благодарить нашу партию и правительство за такую великую подмогу людям! И еще много раз великое спасибо нашему правительству от нас, пострадавших людей.
Часть 18
В этом же году пришёл сынок из Германии - три раза ранен, но пришёл: на живой кости мясо обрастёт. Сынок три года пожил неженатым после Армии, а потом женился и уехал с женой в Москву. Мы остались со стариком вдвоем.
Мой отец умер в 1945 году 12 августа. Прожил 96 лет. После ранения моему хозяину в колхозе дают легкую работу. Мне тоже, после моей болезни, дают легкую работу. Вот нам предложили быть сторожами на ферме в своем колхозе.
Мы взялись. И вот сторожим уже 7 лет на ферме. И все пока благополучно: ни одна скотина не удавилась. Я сторожу до 12 ночи, до утра сторожит старик мой.
На скотном горит электричество. Я пробовала читать. Хотя я малограмотная, но любитель читать книги. И пробовала песни петь и вспоминать, которые позабыла. И в один вечер я со стариком заспорила. Я говорю: «Напишу свои старинные песни и пущу - пусть поют на радио! Что они будут лежать в кубышке? Я много знаю песен, но их не слышно на радио. Вот радио по адресу часто запрос делает всяких записей!» А старик на меня косо посмотрел и говорит: «Умная ты или дура? Кто это твои песни будет перенимать и петь? Вот уж ошалела под старость. И не совсем еще старая, а ума нет у тебя. Совсем спятила старуха! На, напиши! Около тебя посмеются, да с бумажкой с твоей в уборную сходят - и все! Эх голова твоя -два уха, что придумала!» Засмеялся во весь голос и пошёл на постель спать.
До 12 он должен спать, а я пойду старожить на ферму. И долго он бурчал в постели что-то, но я не вслушивалась в его буркатню. а у меня явилась мысль, чтобы написать украдкой от старика несколько песенок.
Он заснул, дал бог, скоро. Я взяла лист бумаги, карандаш, очки, фонарь, спички - на всякий случай. Может, погаснет электричество - то при фонаре устроюсь в телячьей будке, где находились маленькие телятки, новорожденные. Я там и пристроилась писать на скамеечке песни. 8 песен успела написать.
Пришёл старик меня сменять. Я успела все спрятать, как будто я ничего не делала. Старик остался на ферме, а я пришла домой и не легла спать, а написала адрес на главную редакцию в Москве. Заложила листок с песнями, заклеила и спрятала, чтобы старик не видел. А то будет скулить да смеяться надо мной! А завтра я отдам на почте. Так и сделала. Получили мое письмо Зав. Редакцией Хубова и Богуславская - заместитель. Они прочитали мое письмо с песенками и решили написать мне письмо, чтобы я приехала к ним лично. А я за это время отпросилась у старика съездить в Москву к сыну на недельку - и уехала. Побыла там неделю и приехала домой. Но пока пришла со станции, замучилась, так как у меня ноги больные, не магу далеко ходить, а проходу 7 километров - еле дошла.
Ввалилась в кухню, села на стул и отпыхиваюсь. Дома в эту минуту не было никого.
Вошёл со двора старик, осведомился, все ли впорядке у детей, и как сама доплелась до дому, как здоровье. Я тоже спросила: «Как, все благополучно ли дома?» «Да пока все, только овечка хочет отказаться. Я ждал тебя: как - прирезать ее или дальше будем ждать?» «Куда ждать, - я ответила, - чтобы подохла. Надо резать».
«Ну ладно. Теперь я знаю, что с ней делать», - ответил старик. А ходит по кухне и что-то все хочет с усмешкой мне сказать. Я раз заметила и второй заметила. И спросила: «Чего сегодня готовил?» «Ничего. Только поставил самовар, да корову подоил. Пей чай и ешь молоко». Но мне, кстати, чайку еще дорогой хотелось попить. Я налила стакан чаю, старик пошёл за молоком. Поставили крыночку на стол и последнее ему пришлось слово говорить: «Тебе пришло письмо из редакции. Но я его не трогал». Я на старика посмотрела, да зло на него говорю: «Довольно розыгрывать!» Засмеялся старик, повернулся и пошёл в комнату. Скоро вернулся из комнаты, несет мне письмо на мое имя. Правда, из редакции! Я бросила чай пить и давай читать письмо. В письме было написано: «Уважаемый товарищ Глинкина Аграфсна Ивановна, немедленно приезжайте к нам в редакцию лично. Мы твои песенки получили, но не знаем твоих мелодий. Приезжайте - будем ждать. До свидания, жмём вашу руку. Хубова и Богуславская».
Я отдала прочитать старику. Неужели такие разумные люди будут разговаривать с простой рядовой колхозницей, да еще со старухой?
У нас на это было правило поставлено: если придёт письмо на мое имя, он не тронет, и я его письма тоже не трону. Когда прочитаем - тогда отдаём читать друг другу.
Старик сел со мной чай пить и все посмеивается: «А что ты там с ними будешь говорить? Небось, закраснеешь и замкнётся: тыр-пыр и все. Вот у тебя что получится, у такой певицы!» И засмеялся во весь дух, чуть чаем не захлебнулся. «А в чём же ты туда поедешь? У тебя нет настоящего пальто». Я ответила : «Нет пальто - шуба чёрная есть. Кстати, будет хорошо, а то уже холодно!» - Это было в декабре 1951 года. И говорю: «Не горюй, старик, об старухе. Мой отец и дедушка говорили, я помню, хотя я была еще малая, что по одежде встречают, но по уму провожают! Не важно, что нет пальто. Было пальто, но все немец проглатил. А еще не успела нажить. Но зато домик хороший!»
Вот отобедали со стариком. Старик говорит: «Лезь на печку, отдохни. А я пойду овечку зарежу. А завтра отправляйся еще в путь-дорогу: возьмёшь половину овечки, завезешь детям и сестре. А может, самой долго придётся быть в редакции!» А сам смеется.
Я полезла на печку. Хорошо мне показалось с дороги на печке отдохнуть. А в голове стоит Москва и незнакомые люди, как буду знакомится. Но я особенно нетрусливого десятка: все люди свои. Я на них посмотрю, они на меня посмотрят.
На утро, дай бог ноги - да по дороге. Старик проводил до станции, все по хорошему.
Приезжаю к сестре. Вперед сестра удивилась: знает, что только вчера провожала, а сегодня я еще тут. Сестра было испугалась, но я остановила: «Не пугайся, на, прочитай письмо куда я приехала». Сестра прочитала письмо и говорит: «Груш, черт не знает, что ты делаешь! Вот ты не можешь спокойно посидеть или полежать!» Я говорю: «Когда умрем, тогда отдохнем!» Сестра опять говорит: «За твою доступность тебя когда-нибудь жулики сварят на мыло». Я рассмеялась и говорю: «С меня мало будет мыла, я худая. Меня жулики не возьмут».
У сестры переночевала, наутро отправилась на улицу Качалова, в главную редакцию. Подхожу к двери редакции. У двери стоит швейцар, говорит на меня: «Ты куда, бабка? Заблудилась?» Я отвечаю: «Нет, как будто не заблудилась». - «Вам что нужно?» - спрашивает швейцар. – «Посторонним лицам сюда воспрещается входить!» И держит меня между дверей, не пускает. Я настаиваю: «Мне нужна главная редакция». Он отвечает: «Для чего, зачем вам, кому нужно?» Я настойчиво ответила: «Мне нужно к товарищу Хубовой». Когда я проговорила фамилию Хубовой, он сразу перестал меня тискать в дверях, а то я с каждой секундой ждала, что он меня выпихнет за дверь на улицу. Швейцар открыл мне дверь и стал спрашивать мой паспорт. Я вынула свой паспорт и письмо от Хубовой и Богуславской. Он прочитал, руки отпустил от меня и говорит: «Пожалуйста, пройдите к гардеробу!» Сразу изменился, как будто мы не те люди стали минуту назад. Когда мы спорили в дверях, на нас многие в помещении смотрели, что бабака неотступно хочет пройти в Редакцию.
Я подошла к раздевалке. Не успела расстегнуть свою шубу из чёрных простых овчин - подбежал тот самый швейцар и снял с меня шубу с плеч. Ко мне наклонился: «Простите за мое невежество к вам!» - и указал мне к столу, где дают пропуска. Я ему поклоном отблагодарила и пошла к столу. Положила на стол свой паспорт и письма. Мне живенько девушка выписала пропуск. Я пошла к лифту. Поднялась на четвертый этаж: меня работница лифта тут же подняла на четвёртый этаж. Мне нужна была 71 комната. Коридор большой, заслан ковром. Иду, рассматриваю на дверях номера. Вижу - комната 71. Там стоит у дверей тоже швейцар. Думаю: «Ну, обратно, скандал будет». Нет, без скандала обошлось: подошла, сразу показала пропуск. Он с поклоном открыл мне дверь. А Хубова уже знала, что я иду к ней. Она слезла со своего места и идёт ко мне навстречу, к двери. И встретились, чуть я перешагнула порог. Тут мы начали знакомиться. Она повела меня к своему столу. Когда мы проходили по комнате, тут все работники за столами, человек 30, посмотрели на меня как действительно на простую рядовую колхозницу - по моей одежде. У меня была одета фланелевое платьице и простой жемперок. Но приняли меня очень радушно. Когда стали у меня расспрашивать, сколько я знаю песен, я ответила: «До трехсот могу записать песен!» Им стало очень интересно, почти всем сотрудникам этой комнаты. Почти все подошли ко мне с разными вопросами и расспросами. И я отвечала. И нисколько не краснела, как боялся мой старик. Потом моя фамилия сходится с композитором Михаилом Ивановичем Глинка, и в рождении - Смоленской области, Елинский район, а я Монастырщинского. Вот они думали, что я родственница Глинки. Но я нет, не родственница. Я рассказала им, когда я была девчонкой и ездила в Смоленск с отцом, то подолгу стояла у его скульптуры - Глинки. Я любовалась его большой скрипкой и его огромной фигурой. И приходили мне в голову мысли такие, что если б он заиграл на скрипке - я подпела бы ему тоненьким и звучным голоском любую песенку. И с этими мыслями я уходила от скульптуры Глинки. Вот хорошо побеседовали в редакции. Я пропела им тех 8 песен, которые посылала в письме. Вот Хубова мне говорит: «Это все хорошо, что вы к нам попали. Но у нас нет таких инструментов - взять ваши мелодии. А мы вас направим в консерваторию, там у тебя все возьмут и все твои песенки запишут!» И пишет мне письмо, чтобы я передала Квитке этому заведующему музыкального кабинета или Руднивой. А сама звонит по телефону, что к вам идет такая ю певица. Мне стало смешно в душе. Но больше нечем меня было назвать, как этим словом. Вот дают мне письмо и провожатого. Думают, что я не найду: из деревни, да уже не молодая - на шестой десяток! Но я от провожатого отказалась. Сказала: «Я сама найду, мне только адрес». Адрес был написан на конверте. Еще на меня кто-то сказал: «Вот бедовая бабка! Верно, не раз была в Москве!» А адрес: ул. Герцена Консерватория д. 3, Кабинет народной музыки.
Я взяла письмо, распрощалась и спустилась по лестнице в сопровождении Хубовой и Богуславской: они меня проводили до самой той двери, в которую меня не пускал швейцар. Швейцар струсил, когда увидел своё начальство провожавши меня, он думал, что ему будет выговор за меня. Но я даже и не вспомянула про нашу ссору в дверях.
Я вышла за дверь на улицу и осмотрелась, не сразу слезла с крыльца. За мной вышел этот самый швейцар, подошёл ко мне и спросил: «Гражданочка, вы там не проговорились про меня?» - «Нет, - я ответила, - будь спокоен, я не люблю пустяки переговаривать». И усмехнулась: «А если второй раз приду к вам, то совсем дверь закроешь?» «Нет, нет, уже теперь не закрою, а пошире открою!» Сказали один другому «до свидания». И я иду в консерваторию.
Время было около часу дня. Я быстро нашла эту улицу и дом 13. Я вошла в дверь по лесенке как на второй этаж. Тут сряду сидит контроль и видит, что пришел чужой человек. Она подошла ко мне, спросила: «Вы к кому?» Я подала ей письмо. Она взглянула на конверт и сразу - на девушку говорит: «Проводи ее в 56-ю комнату». Я разделась в раздевалке, сдала свою шубу и пошли в 56-ю комнату. Тут меня уже тоже ждали. Встретила меня Бочинская и Руднива. И четыре сотрудника этой комнаты, тут тоже пошли такие расспросы. И много не стали спрашивать, а поставили предо мной маленький метофончик. И заставили меня петь над ним. И я пропела 28 песен. В этот раз их дописали и проверили: маленький метофончик пел мои песни, а я слушала, нет ли где ошибок. Но ошибок не было. После песен пошли мы с Руднивой Анной Васильевной в буфет, сели за столик. На столик наставили, наложили предо мной разных бутербродов: и с колбасой, и с сыром, и с маслом. Но я только один бутербродик скушала с икрой и два стакана чаю выпила.
К нашему столику тоже много подходили преподаватилей консерватории и интересовались моими песнями.
После обеда или отдыха мы пошли в свою комнату. Пришсл Квитка Климент Васильевич старичок. Он поразговаривал со мной. И велит завтра мне приехать к ним и еще подзаняться со мной. Но я, конечно, не отказала. Обещаю приехать не раньше 11 часов дня.
Когда приехала к сестре ночевать - стала рассказывать свое путешествие. Сестра удивилась и только проговорила, что «тихому бог даст, а бойкий и сам проскочит, так и у тебя выходит».
Наутро встала, сестра ушла на работу, собираюсь и я на работу. Настроение хорошее. Я села на четырнадцатый трамвай, доехала до Трубной. А там троллейбусом до Никитских ворот, а потом пешком пришла к контрольше.
Она уже меня приметила, что я вчера была, и спросила: «Что, бабка, песенки передаешь?» Я ответила: «Да, буду передавать». Она говорит: «К нам многие приходят передавать песни, но не у всех принимают!» Разговор кончился, я пошла в 56-ю. На меня многие посматривают, видят, что человек не ихний.
В коридоре я встретилась с Бочинской. которая работает в том кабинете. Она со мной здоровается. В это время на меня уборщица говорит: «Бабка, зачем сюда идешь? Здесь посторонним нельзя ходить!» А Бочинская уборщице ответила: «Она не посторонняя, она наша будет, так что вы не шумите на нее». Бочинская уборщицу назвала по батюшке, но я не расслышала, мы пошли в кабинет народной песни. Вот эта Бочинская стала заниматься со мной. Я еще на этот день добавила 47 песен. И объяснила им, что мне нужно ехать домой: у меня была корова на причине. А старик не может владеть на ферме и дома. Они охотно согласились меня отпустить, чтобы я поехала домой. Дают мне листов сорок бумаги и заказывают мне писать все песни: отчего песня провзошла, какое песни содержания и когда она поется. Я вижу, что я к ним попала не даром, а спрашивают от меня дела. Ну, отказаться уже нельзя, я сама этого хотела. Я беру бумагу, даю обещание, что все напишу.
Приехала домой, и уже не то: я открыто положила свои бумаги на стол. Старик ничего не сказал, а молча посмотрел на мою канцелярию. А я начала писать. С декабря 25 дня к 20- му апреля я написала 257 песен. С консерватории мне пишут: «Если закончили писать, то привози к нам!» Я закончила и повезла свой материал сдавать.
У меня приняли 147 песен неизвестных в радио. Остальные известные. Теперь я ездию два раза в год в консерваторию. И уже не говорят, что я посторонняя. Но по радио и еще не пропустили, а обрабатывают.
Часть 19
Вот, дорогие мои читатели, кто будет читать мою книгу и сравнить время царское с этим временем, когда пошла жизнь вольная и счастливая для всей молодежи. А моя жизнь была - детство невольная, юная жизнь еще хуже невольная. И вот как может заглохнуть талант человека в невольной жизни навсегда.
Вот это была моя любимая песенка, когда я стала взрослой и много начала переживать:
Любила глазы голубые –
Теперь влюбилась в черные
То были очень дорогие.
А эти - непокорные.
Ох вы, очи черные, очеровали вы меня!
И в час глубокой полуночи
Сказала: «Ялюблю тебя!»
Но разлюбить так невозможно,
И позабыть не в силах я.
Но полюбила неосторожно –
Признаться в этом я должна!
1954 год. То есть этот год я сторожила денным сторожем скотину на ферме: убирала мусор, грязь. И я скотину всю очень любила. И любила за ней ухаживать и разговаривать со скотиной. Самый злой бык в нашей ферме - Сынок - и тот примирился со мной, перестал орать, а стал ласково на меня смотреть. И чего-то от меня ждет. Я ему сперва стала давать хлебушка кусочек. Он скосился на меня, как крикнет! Что от голоса его испугаешься! Но я не отходила от него и все дальше протягивала руку с хлебом к его ноздрям. Вот услыхал воздух хлеба и взял у меня с руки. И так сладко съел! Но ему того кусочка мало, ему бы килограмм - такому громиле!
С этих времен мы с ним помирились. Я каждый день приносила ему гостинцы: то горошку стручков, то морковочку, то помидорку. И мы стали друзья - с таким злым неподступимым Сынком - так его звали.
Вот когда я замучаюсь и сажусь отдохнуть - у меня появляются мысли что-то сочинить: песенку или стишок про нашу ферму, про колхозное хозяйство, которая нами нажитая честным трудом.
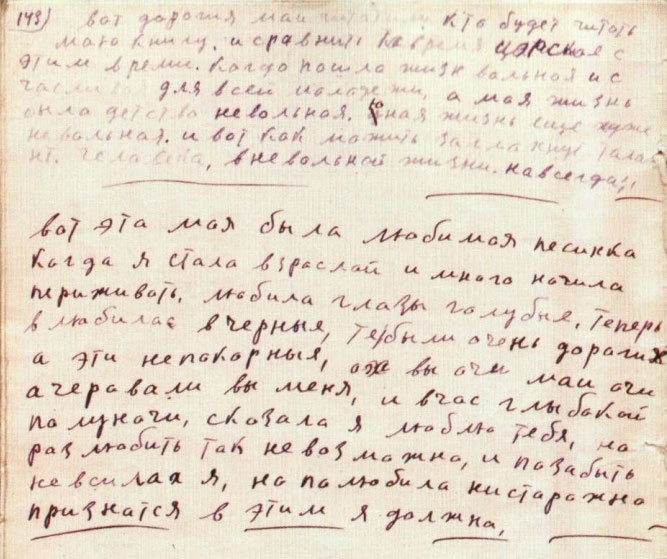
____________________
Как по морю-морю морю синему
Лялиит моря синия
Там плывут, плывут табун вутык
Меж тых вутычик да малыя чирыка
Отколь взялся серый селязенька
Он узялы чирыку за правыю крылыку
А усе утычки позакрякыли
Ни крякыйтя вутки, ни крякыйтя серы
Када Бог осудит и вам ета будить
По дяденыкавыски дый по улицы
Крашиит улица девыкими
Там идут, идут караготы девык
Межы тых девычик млада Пашечка
Откули взялыся молодой Васечка
Он узял Пашычку за правыю ручку
А все девачки позаплакали
Ни плачтя вы девыки, ни плачтя вы красны
Када Бог осудит и вам это будить
Горе мое, горе, горе мое горе,
Горюшко большое.
Когда к этому горю, когда к этому горю
Родна матушка пришла.
Говорила бы я с нею, говорила бы я с нею
Всю ночку до свету.
Посоветуй мне матерь, посоветуй мне, матерь,
Али тута мне жити.
Али тута мне жити, али прочь отойтити.
Горюй, дочка, горе, как я горевала.
Расти, дочка, детей, расти, дочка, детей,
Как я зарастила.
Горюй, дочка, горе, горюй, дочка, горе,
Как я горевала.
Ходи к матушке в гости, ходи к матушке в гости,
Пока матушка жива.
Пока матушка жива, пока матушка жива,
Дороженька мила.
А как матушка умрет, дорожка зарастет,
Зарастет дороженька, зарастет широкая
Травой-муравою.
Травой-муравою, травой-муравою
Рощей зеленою...

А. И. Глинкина (справа) с родителями, мужем, детьми и сестрой

Начало 1950-х годов - с сестрой Анной, сыном Михаилом, снохой Тамарой и внуком Славиком.

.jpg)
За записью песенных текстов (1950-е годы) / 1959 год - фотография для сборника народных песен
.jpg)
1964 год - в народном костюме / Фотография на память
.jpg)
1968 год - с участниками этнографического концерта и с фольклористами-филологами.
.jpg)
1967 год - с профессором А. М, Новиковой.
.jpg)
1966 год - с профессором Московской консерватории А. В. Рудневой
.jpg)
1966 год - с сотрудниками Кабинета народной музыки Московской консерватории.

В Шваново летом 1966.

У нового дома в Шваново (1960-е годы)

С сыном Михаилом и Мужем Яковом Ефремовичем. Лето 1971 года.

1971 год. Со студентами под Костромой - после творческой встречи.

1971 год - лето. С артистом С. Н. Плотниковым на съёмках кинофильма "Иванов катер". Одна из последних фотографий.

___keepration_300x300.jpg)





___keepration_220x220.jpg)


Русский этнос !