Василий Шукшин родился 25 июля 1929 года в селе Сростки Бийского района Алтайского края в крестьянской семье. Его родители были уроженцами той же местности и по социальному положению считались крестьянами-единоличниками, или середняками. Когда в 1930 году началась сплошная коллективизация, их заставили вступить в колхоз. Глава семьи - Макар Леонтьевич Шукшин - стал работать механизатором на молотилках, в деревне пользовался заслуженным уважением. Однако в дальнейшем это не спасло его от репрессий: в 1933 году Макара Леонтьевича арестовали.
Оставшись с двумя маленькими детьми на руках, 22-летняя Мария Сергеевна Шукшина впала в отчаяние. Есть свидетельства, что в тот момент она хотела отравить себя и детей, лишь бы не видеть того, что происходило вокруг. Но это отчаяние длилось недолго. Затем пришло трезвое осознание того, что надо жить, если не ради себя, то хотя бы ради детей. И вскоре Мария Сергеевна вышла замуж повторно, за односельчанина Павла Куксина.
Однако и этот брак оказался недолгим - в 1942 году Куксин погиб на фронте.
По воспоминаниям очевидцев, Шукшин рос мальчишкой замкнутым, что называется, "себе на уме". В общении со сверстниками он держал себя строго и требовал, чтобы те называли его не Васей, а Василием. Те, естественно, не понимали подобных просьб и частенько насмехались над товарищем. В таких случаях Шукшин поступал соответственно своему характеру-убегал в протоки Катуни и скрывался на ее островах по нескольку дней.
В 1944 году Шукшин окончил семь классов Сросткинской школы и поступил учиться в автотехникум в городе Бийске (35 км от Сросток). Но закончить его он так и не сумел - чтобы прокормить семью, пришлось учебу бросить и устраиваться на работу.
Первым местом работы Шукшина стал трест "Союзпроммеханизация", который относился к московской конторе. Устроившись туда в 1947 году в качестве слесаря-такелажника, Шукшин вскоре был направлен сначала на турбинный завод в Калугу, затем - на тракторный завод во Владимир.
В апреле 1949 года последовала новая смена рабочего места - на этот раз его отправили на строительство электростанции на станцию Щербинка Московско-Курской железной дороги. Там он проработал несколько месяцев, после чего попал на строительство железнодорожного моста на станции Голицыне. Именно там (в октябре) его и застала повестка из военкомата о призыве на действительную военную службу.
Окончив учебку по специальности радиста, Шукшин в 1950 году попал в одну из частей Черноморского флота, дислоцированную в Севастополе.
Однако прослужить "от звонка до звонка" Шукшину не удалось - в 1953 году у него обнаружилась язвенная болезнь желудка. По рассказам самого Шукшина, ему стало плохо прямо на палубе. Его скрутила такая адская боль, что он едва не потерял сознание. Видя это, врач приказал нескольким матросам срочно доставить его на берег. А на море в это время разыгрался шторм. Но иного выхода не было, и Шукшина положили в шлюпку. Позже В. Шукшин так вспоминал об этом: "Вот так раз - и вверх, а потом вниз проваливаешься. А боль - прямо на крик кричал: "Ребята, ребята, довезите!" Стыдно, плачу, а не могу, кричу. А они гребут. Не смотрят на меня, гребут. Довезли".
Вскоре медицинская комиссия Главного военного госпиталя Черноморского флота комиссовала Шукшина.
Вернувшись в родные Сростки, Шукшин сдал экстерном экзамены и поступил на работу в школу сельской молодежи в качестве учителя 5-7-х классов (преподавал русский язык и литературу) и одновременно директора. Однако проучительствовал недолго. Поступил было в автомобильный техникум, но вскоре понял, что и это не его стезя - поршни и цилиндры вгоняли его в тоску. Те же чувства он испытал, когда устроился работать инструктором райкома партии. И вот тогда Шукшин решает отправиться в Москву, поступать на сценарный факультет ВГИКа. Мать не стала препятствовать сыну в этом желании, более того, сделала все, что могла - продала корову и вырученные деньги отдала сыну. Так летом 1954 года Шукшин оказался в Москве. Одет он был в полувоенный костюм, гимнастерку, из-под которой виднелась тельняшка, на ногах были брюки клеш и сапоги.
Придя на сценарный факультет ВГИКа, Шукшин представил на суд экзаменаторов свои рассказы, которые были записаны в толстую амбарную тетрадь. Так как почерк у Шукшина был очень мелкий, а тетрадь была очень толстая, девушки в приемной комиссии читать написанное поленились, решив про себя, что этот абитуриент типичный графоман. Однако, чтобы не обижать его, решили посоветовать: "У вас фактурная внешность, идите на актерский". Вот что рассказывал бывший сокурсник Шукшина кинорежиссер А. Митта: "Тут от студентов Шукшин узнал, что есть еще и режиссерский факультет. А он понятия не имел, что есть такая профессия - режиссер. Думал, что для постановки фильма собираются артисты и договариваются между собой, как снимать. Оказалось, что режиссер- хозяин картины, главный человек. Тогда он подал на режиссерский.
Вгиковские педагоги боялись его брать. Он был правдолюбец, совершенно не понимал, что можно говорить, чего нельзя. Педагоги опасались, что он всех перебаламутит и их из-за него выгонят с работы. Но в него поверил Михаил Ромм...
На экзамене Ромм ему говорит: "Ну, расскажите, как себя чувствовал Пьер Безухов в Бородинском сражении". Шукшин отвечает: "Я это не читал. Очень толстая книжка, руки не доходят". Ромм нахмурился: "Вы что же, толстых книжек совсем не читаете?" Шукшин говорит: "Нет, одну прочел. "Мартин Иден". Очень понравилась". Ромм сказал: "Какой же вы директор школы, вы некультурный человек. Нет, вы не можете быть режиссером". И тут вдруг Шукшин стал на него кричать: "А вы знаете, что такое директор школы? Дрова к зиме у председателя сперва выбей, потом вывези да наколи, чтоб детишки не мерзли. Учебники раздобудь, парты почини, керосину добудь, учителей размести. А машина - с хвостом на четырех копытах, и ту в колхозе не выпросишь. Где шагом, где бегом, грязь - во... Где уж тут книжки читать!" Вгиковские бабки были счастливы - нагрубил Ромму, сейчас его выгонят. А Ромм заявил: "Только очень талантливый человек может иметь такие нетрадиционные взгляды. Я ставлю ему пятерку".
Поступив во ВГИК, Шукшин поселился в общежитии института на Трифоновской улице. В 1955 году вступил в ряды КПСС. В декабре того же года, из-за обострения язвы желудка, Шукшин попал в Остроумовскую больницу.
В 1956 году состоялся дебют Шукшина в кино: в фильме С. Герасимова "Тихий Дон" (вторая серия) он сыграл в крошечном эпизоде - изобразил выглядывающего из-за плетня матроса. С этого матроса и началась кинематографическая судьба Шукшина-актера.
Летом следующего года Шукшин оказался на практике в Одессе и совершенно внезапно получил приглашение от режиссера Марлена Хуциева сыграть главную роль в его фильме "Два Федора".
Фильм "Два Федора" вышел на экраны страны в 1959 году, и его премьера состоялась в столичном Доме кино на улице Воровского. Причем Шукшин это торжественное мероприятие едва не пропустил. Накануне он выпил лишнего, устроил скандал в общественном месте, и его задержала милиция. Когда об этом узнал Хуциев, он тут же бросился выручать Шукшина. Он приехал в отделение милиции и встретился с его начальником. Разговор был долгим, и страж порядка долго не хотел идти навстречу режиссеру. При этом его аргументы были довольно убедительными. "У нас перед законом все равны! - говорил он. - А артисту тем более непозволительно вести себя подобным образом!"
И все же Хуциеву удалось уломать милиционера. Судя по всему, решающее значение имело то, что Хуциев пригласил начальника отделения на премьеру картины, пообещал устроить ему лучшие места в зале. Так состоялась премьера этого фильма. Она оказалась очень успешной, и Шукшина-актера заметили.
Параллельно с успехами в кино довольно успешно складывалась и литературная судьба Шукшина. С третьего курса, по совету Ромма, он стал рассылать свои рассказы по всем столичным редакциям в надежде, что какая-нибудь из них обратит внимание на его труды. И он не ошибся. В 1958 году в © 15 журнала "Смена" был опубликован его рассказ "Двое на телеге". Однако эта публикация прошла не замеченной ни критикой, ни читателями, и удрученный Шукшин на время перестал рассылать свои произведения по редакциям.
Незамеченной оказалась и дипломная работа Шукшина во ВГИКе -короткометражный фильм "Из Лебяжьего сообщают" (1961). Фильм рассказывал об одном будничном рабочем дне сельского райкома партии в жаркий период летней страды. Посмотрев его, многие коллеги Шукшина посчитали фильм несовременным, в какой-то мере даже скучным.
Между тем актерская карьера Шукшина в те годы складывалась гораздо успешнее, чем режиссерская. После фильма "Два Федора" приглашения сниматься посыпались на него со всех сторон. Буквально за короткий период Шукшин снялся в целом ряде картин: "Золотой эшелон" (1959), "Простая история" (1960), "Когда деревья были большими", "Аленка", "Мишка, Серега и я" (все-1962), "Мы, двое мужчин" (1963) и др.
В начале 60-х одно за другим стали выходить в свет и литературные произведения Шукшина. Хронология этих публикаций такова: рассказы "Правда", "Светлые души", "Степкина любовь" были напечатаны в журнале "Октябрь" - в © 3 за 1961 год; "Экзамен" - в © 1 за 1962-й; "Коленчатые валы" и "Леля Селезнева с факультета журналистики" - в © 5 за тот же год.
В 1963 году в издательстве "Молодая гвардия" вышел первый сборник В. Шукшина под названием "Сельские жители". В том же году в журнале "Новый мир" (© 2) были напечатаны два его рассказа: "Классный водитель" и "Гринька Малюгин" (цикл "Они с Катуни"). На основе этих рассказов Шукшин вскоре написал сценарий своего первого полнометражного фильма "Живет такой парень". Съемки картины начались летом того же года на Алтае.
На главную роль - шофера Паши Колокольникова - Шукшин пригласил своего однокурсника по учебе во ВГИКе Леонида Куравлева, которого он уже однажды снимал в своей дипломной работе "Из Лебяжьего сообщают". На другие роли он пригласил ряд известных актеров, часть из которых согласилась работать с режиссером-дебютантом, часть- нет.
Картина "Живет такой парень" вышла на экраны страны в 1964 году и получила восторженные отклики публики. Хотя сам Шукшин был не слишком доволен его прокатной судьбой. Дело в том, что фильм почему-то записали в разряд комедий и, отправив в том же году на международный кинофестиваль в Венецию, выставили его на конкурс детских и юношеских фильмов. И хотя картине присудили главный приз, Шукшин таким поворотом событий был не удовлетворен. Ему даже пришлось выступить на страницах журнала "Искусство кино" (© 9) с собственным пояснением к фильму. Вот что он заявил: "Я очень серьезно понимаю комедию. Дай нам бог побольше получить их от мастеров этого дела. Но в комедии, как я ее понимаю, кто-то должен быть смешон. Герой прежде всего... Герой нашего фильма не смешон".
В те же годы существенные изменения происходили и в личной жизни Шукшина. В 1963 году многие судачили о его романе с известной поэтессой Беллой Ахмадулиной, которую он даже снял в своей первой картине "Живет такой парень" (она сыграла журналистку). Однако через несколько месяцев их роман благополучно завершился, и судьба свела Шукшина с другой женщиной - Викторией Софроновой. Было ей в ту пору 33 года, она была разведена и трудилась редактором в журнале "Москва". Вот что она вспоминает о тех днях: "Как-то я прочитала в "Новом мире" цикл рассказов "Они с Катуни". Автор Шукшин. Мне понравилось. Позже я узнала, что в Центральном доме литераторов состоится обсуждение его новой повести, и пошла туда вместе с друзьями.
Признаться, та повесть Шукшина была слабой. Ее критиковали. И я тоже. Когда все стали расходиться, я почувствовала, что... мои ноги не идут. Мне стало жаль Шукшина. Я подошла, стала его утешать, напомнила о других - удачных - произведениях.
Потом ушла с друзьями в кафе. Заказали столик, и вдруг туда же заходит Шукшин. С Беллой Ахмадулиной. У них тогда заканчивался роман, и это был их прощальный вечер. С ними были еще Андрей Тарковский с женой. Случайно или нет, но мы оказались с Шукшиным за столиками лицом к лицу. И весь вечер смотрели друг другу в глаза. Хотя мне, в общем-то, несвойственна такая смелость.
Потом он меня нашел. Я тогда только развелась с мужем, детей не имела...
Жили мы вместе, но Вася часто был в разъездах, на съемках. Когда приезжал, к нам приходили его друзья: оператор Саша Саранцев, Вася Белов. Мы все спорили. Я и мама защищали советскую власть, а Вася ругал. У него же отец был репрессирован. И он вообще очень отличался от всех. В шкафу, например, у него стояла иконка.
Я Шукшина очень любила. А он был ревнив. Однажды даже подрался с Саранцевым из-за того, что тот, прощаясь, меня поцеловал.
Однажды он позвал меня на родину, в Сростки. Мать и сестра Василия мне показались строгими, но хорошими. До тех пор пока мы с Шукшиным были вместе, они поддерживали со мной отношения. Потом с Васей что-то произошло, он охладел. Я поняла, что мы скоро расстанемся. Сказала об этом ему. И вскоре забеременела..."
Видимо, первая серьезная трещина в их отношениях произошла летом 1964 года, когда Шукшин отправился в Судак на съемки фильма "Какое оно, море?" (режиссер Э. Бочаров). И там судьба свела его с 26-летней киноактрисой Лидией Федосеевой.
Л. Федосеева приехала в столицу из Ленинграда и в 1957 году поступила во ВГИК. Тогда же начала сниматься. В 1959 году на экраны страны вышел фильм "Сверстницы", в котором Федосеева сыграла одну из главных ролей - студентку Таню.
В том же году во время съемок очередного фильма в Киеве она познакомилась с актером киностудии имени Довженко Вячеславом Ворониным (снимался в фильмах: "Первый эшелон", "Иванна", "Кочубей", "Сон" и др.) и в 1960 году родила от него девочку, которую назвали Настей. Однако рождение ребенка отрицательно сказалось на ее учебе во ВГИКе - вскоре за систематические пропуски занятий Федосееву отчислили из института. Пришлось ее молодому супругу идти на поклон к декану актерского факультета ВГИКа. Этот поход завершился успехом - Федосееву восстановили в институте и зачислили в мастерскую С. Герасимова и Т. Макаровой.
Между тем возвращение Федосеевой в столицу сыграло с молодой семьей злую шутку. Так как Воронин продолжал жить в Киеве, а Федосеева в Москве (при этом их дочка жила у бабушки в Ленинграде), виделись они крайне редко и в конце концов отвыкли друг от друга. Поэтому к 1964 году, когда Федосеева закончила ВГИК и уехала сниматься в картине "Какое оно, море?", ее брак с Ворониным успел превратиться в чистую формальность.
Когда Федосеева узнала, что ее партнером по съемкам будет Шукшин (он должен был сыграть роль бывшего уголовника, матроса Жорку), она расстроилась. Разговоры о пьяных загулах этого человека давно ходили в кинематографической среде, поэтому ничего хорошего от встречи с ним актриса не ждала. Был даже момент, когда она попросила режиссера подыскать, пока не поздно, замену Шукшину, иначе они все с ним намаются. Но режиссер заверил ее, что все будет нормально.
Первая встреча Шукшина и Федосеевой произошла в поезде по дороге в Судак. Она ехала в одном купе со своей дочкой Настей и операторами картины. Шукшин пришел к ним в гости, причем пришел не с пустыми руками - принес с собой бутылку вина.
Л. Федосеева вспоминает: "Я потихоньку наблюдала за Шукшиным: глаза у него зеленые - веселые, озорные и хулиганистые. Компания оказалась на редкость приятной, и я запела. И запела - "Калину красную". Он вдруг странно посмотрел на меня и подхватил...
Когда же все заснули, чувствую, как кто-то входит в купе. Смотрю - Вася. Тихонько присаживается ко мне и говорит: "Ну, давай, рассказывай о себе". Всю ночь мы проговорили.
Когда ехали в автобусе в Судак, остановились в лесочке. Помню, я первая вошла в автобус, а Шукшин за мной и что-то под пиджаком держит. Спрашиваю: зверька поймал? А он мне - маленький букетик цветов. Потом узнала, что это были первые цветы, которые он подарил женщине. Я долго хранила их".
Несмотря на внезапно вспыхнувшее в нем чувство к молодой актрисе, Шукшин и на этих съемках позволял себе напиваться. Правда, делал это в свободное от съемок время. В кадр же он всегда входил свежий. В процессе съемок он вызвал с Алтая своих маленьких племянника и племянницу, детей сестры Наташи. Сделал это для того, чтобы детишки увидели наконец море, про которое читали только в книжках.
Между тем 12 февраля 1965 года у Виктории Софроновой родилась девочка от Шукшина. Ее назвали Катей. Узнав об этом, Шукшин приехал в роддом и передал молодой матери... бутылку портвейна. И самое удивительное - эту передачу приняли.
Через несколько дней Викторию с ребенком выписали из роддома, и когда они вышли на улицу, там их уже дожидался Шукшин. Но радостной встречи не получилось. Виктория уже знала, что ее любимый встречается с другой женщиной, и тут же потребовала от него сделать окончательный выбор. Но ничего вразумительного Шукшин ей сказать так и не смог. И она его выгнала. И хотя он и после этого продолжал приходить к ней и к ребенку, однако теплых отношений между ними уже не было.
В. Софронова вспоминает: "Вася оказался меж двух огней. Он жил то с Лидой, то со мной. Ему дали квартиру в Свиблове, и, когда у него что-то с ней не заладилось, она ушла, он пригласил нас с Катей к себе. Мы приехали, но мне было там неуютно, к тому же Вася пил. Мы уехали к себе..."
Тем временем творческая энергия Шукшина трансформируется в целый ряд новых литературных и кинематографических проектов. Во-первых, выходит новая книга его рассказов под названием "Там вдали...", во-вторых, в 1966 году на экранах появляется его новый фильм - "Ваш сын и брат", который через год удостаивается Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.
Мысли о России привели Шукшина к идее снять фильм о Степане Разине. По словам Лидии Федосеевой, в течение всего 1965 года Шукшин внимательно изучал исторические труды о второй крестьянской войне, конспектировал источники, выбирал из антологий нужные себе народные песни, изучал обычаи середины и конца XVII века и совершил ознакомительную поездку по разинским местам Волги. В марте следующего года он подал заявку на литературный сценарий "Конец Разина", и эта заявка первоначально была принята. Съемки фильма намечались на лето 1967 года. Шукшин был целиком захвачен этой идеей и ради ее претворения в жизнь забросил все остальные дела: он даже прекратил сниматься в кино, хотя его звали к себе на съемочную площадку многие известные режиссеры. Только для С. Герасимова он сделал исключение, снявшись в 1966 году в эпизодической роли журналиста-международника в его картине "Журналист". Однако все оказалось напрасным - высокое кинематографическое начальство внезапно изменило свои планы и съемки фильма заморозило. При этом были выдвинуты следующие доводы: во-первых, сейчас нужнее фильм о современности, во-вторых, двухсерийный фильм на историческую тему потребует огромных денежных затрат. Короче, Шукшину дали понять, что съемки фильма о Разине откладываются на неопределенное время.
То же самое произошло и с другой идеей Шукшина - желанием экранизировать собственную сатирическую сказку "Точка зрения". Во время обсуждения этой заявки на студии имени Горького коллеги Шукшина внезапно приняли его идею в штыки. Известный режиссер С. Юткевич, к примеру, заявил: "Картина в целом предстает настолько неутешительной, что вряд ли она принесет много радости зрителям, даже желающим надсмеяться над своими недостатками и трудностями в наступающем юбилейном году" (приближалось 50-летие советской власти). Убийственные выводы коллег произвели на Шукшина тягостное впечатление.
Вспоминает С. Ростоцкий: "У меня в столе лежит копия письма, которое я однажды направил Василию Шукшину в его алтайские Сростки. Не так давно мне эту копию передала одна женщина. В свое время было очень тяжелое положение у Василия Макаровича - и творческое, и бытовое. Лечился он двумя способами: русским национальным напитком и поездками на родину в Сростки. Вот уехал он в очередной раз. Я в этот период фильм снимал. И вдруг вызывает меня директор киностудии имени Горького Григорий Иванович Бритиков и говорит: "Стае, с Васей плохо, поезжай, привези". Не мог я тогда поехать - нельзя было бросить съемочную группу, остановить картину. Сел за это письмо. В нем я рассуждал о самоубийстве - все ведь боялись именно этого, что Шукшин что-нибудь с собой сделает. А я писал о своем поколении, о войне, о том, что вхожу в три процента счастливчиков 1922 года рождения, которые вернулись в мае 1945-го. Василий Макарович приехал. Надо было его знать... Он подошел ко мне в коридоре киностудии и пожал руку: "Спасибо".
А вот что вспоминает о тогдашнем состоянии мужа Л. Федосеева-Шукшина: "Вася мог две-три недели пить, был агрессивный, буйный. Я выгоняла из дома всех, кого он приводил. На себе его не раз притаскивала. Был даже случай, когда увидела мужа лежащим около дома, а я тогда была беременная. Лифт не работал. Что делать? Взвалила на себя и потащила. Думала, рожу. До этого два года у нас не было детей, для меня это было трагедией. Когда же родилась Маша (в 1968 году), он бросил на время пить. Дети его спасли...
Он за 10 лет нашей жизни только раза три, от силы пять, объяснялся мне в любви, да и то - от обиды или ревности. И вместе с тем хорошо знал меня, понимал".
Через год после рождения Маши в семье Шукшиных на свет родилась еще одна девочка - Оля. Это радостное известие застало Шукшина в окрестностях Владимира на съемках очередной картины - "Странные люди". В основу ее легли три шукшинских рассказа: "Чудик", "Миль пардон, мадам!" и "Думы".
Путь этого фильма к экрану оказался довольно сложным. Целых восемь месяцев сдавал его Шукшин. В процессе съемок и сдачи его он успел сняться в нескольких картинах: у С. Герасимова в "У озера", у И. Шатрова в "Мужском разговоре", у Ю. Озерова в "Освобождении" и советско-венгерском фильме "Держись за облака" (в ноябре 1969 года слетал на съемки в Будапешт). А в начале следующего года фильм "Странные люди" наконец был принят и вскоре выпущен на экран.
В ноябре Шукшина пригласили на премьеру "Странных людей" в Париж. Вместе с ним туда выехал и режиссер Глеб Панфилов. Вот как он вспоминал об этом:
"Шукшин в бороде Степана Разина, в кепочке массового пошива и в плаще неизвестного происхождения едет в Парижский Киноцентр на премьеру своей картины "Странные люди" и моего "Начала". Едем мы вместе. Помню, перед демонстрацией нас угощали каким-то замечательным, сверхмарочным шампанским - из подвалов времени. Вкуса не помню - так волновался. А Вася и вовсе не пил. Он вообще в то время дал зарок не пить ни капли и свое слово сдержал до самой смерти. Потом рассказывал, что однажды пошел со своей маленькой дочкой гулять. Встретил приятеля, зашли на минуту отметить встречу. Дочку оставили на улице. И забыли. А когда вышел из кафе, дочки не оказалось. В ужасе он обегал весь район. Что пережил - не рассказывал, но, по-видимому, это так его потрясло, что он поклялся никогда больше не пить, что и выполнил. Мне кажется, что он вообще выполнял все, что задумывал, все, что зависело от него, лично от него, от силы его воли, его характера. Но, конечно, ничего не мог сделать, когда ему мешали, когда за него решали".
Об этом же рассказ А. Заболоцкого: "С 1969 года (я работал с ним до последних дней) ни разу ни с кем Шукшин не выпил. Даже на двух его днях рождения не тронул он спиртного, а нам разливал без паузы, рассказывал не без гордости: у Михаила Александровича в гостях не выпил, на что обиженный Шолохов обронил ему: "Буду в Москве у тебя, чашки чаю не трону".
Однажды я расспрашивал его: "Как это тебе удается? Надо же, был в Чехословакии и пива там не попробовал! Ну как такое возможно россиянину?! Иль ты себе пружину какую вшил?" Он не сердился, прохаживаясь по номеру гостиницы: "Не в пружинах дело. Был я по протекции Василенко у одного старичка доктора, который, знал я, лечил Есенина, и из той беседы вынес - только сам я, без лекарств, кузнец своего тела. Надо обуздывать себя..."
В 1969 году В. Шукшину было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Что касается творческих планов Шукшина в тот период, то его не оставляла надежда добиться постановки фильма о Степане Разине. В феврале 1971 года он пишет очередную заявку на имя директора киностудии имени Горького Г. Бритикова с просьбой разрешить ему снять эту картину. Но ему опять заявили, что сейчас нужнее фильм о современности, и в итоге уже второй раз Шукшин был вынужден снимать вместо "Разина" совсем другую картину. Этим фильмом стали "Печки-лавочки". В своей заявке Шукшин так излагает содержание сценария этого фильма: "Это опять тема деревни, с "вызовом", так сказать, в город. Иван Расторгуев, алтайский тракторист, собрался поехать отдохнуть к Черному морю. История этой поездки и есть сюжет фильма. Историю эту надо приспособить к разговору об:
1. Истинной ценности человеческой.
2. О внутренней интеллигентности, о благородстве.
3. О достоинстве гражданском и человеческом..."
На роль Ивана Расторгуева Шукшин с самого начала наметил своего любимого актера-Леонида Куравлева. Однако тот внезапно отказался от этого предложения и предложил Шукшину... взять эту роль себе. Шукшин так и сделал. И не ошибся. Н. Зоркая позднее писала: "Вот тут-то и обнаружилось, какого артиста имеет советский кинематограф в Василии Шукшине! Открылось во всю ширь широкого экрана, в максимальном приближении к нам на крупных и сверхкрупных планах: режиссер и оператор в "Печках-лавочках" увлекались широким экраном и сверхкрупными планами, специально выделяли и укрупняли в лице человека как бы центральную "зону общения" и мимической выразительности-глаза, губы. Наверное, юмор есть первое свойство актерской игры Шукшина в "Печках-лавочках". И еще тонкая, просто филигранная, изысканная отделка роли". Однако публика, в отличие от критики, приняла этот фильм достаточно сдержанно.
В конце 1972 года Шукшин перешел со студии имени Горького на "Мосфильм". Сделано это было по одной причине: на "Мосфильме" ему пообещали помочь в осуществлении его давнего замысла - постановки фильма о Степане Разине. С. Бондарчук вспоминал: "Шукшин перешел в Первое творческое объединение киностудии "Мосфильм", художественным руководителем которого я являюсь, когда уже был написан сценарий "Я пришел дать вам волю" - о Степане Разине. Мне казалось, что на студии детских фильмов имени Горького картину по этому сценарию будет трудно поставить. Шукшину нелегко там работалось. Он и сам говорил об этом. И переход его на "Мосфильм" был внутренне предрешен".
Однако и здесь ситуация с "Разиным" оказалась достаточно сложной. Руководители "Мосфильма" отделывались расплывчатыми обещаниями и конкретных сроков постановки Шукшину не называли. Ему даже пришлось искать помощи в ЦК КПСС, но и там ответ был туманный: "Мы постараемся разобраться..."
Тем временем, пока в ЦК разбирались, Шукшин приступил к съемкам очередной своей картины - "Калина красная". Работа над ней началась весной 1973 года в Вологодской области, под Белозерском. Как и в "Печках-лавочках", Шукшин в этой картине выступил в трех ипостасях: режиссер, сценарист и исполнитель главной роли. На встрече со зрителями в Белозерске той же весной Шукшин так объяснял замысел фильма: "Эта картина будет поближе к драме. Она - об уголовнике. Уголовник... Ну, какого плана уголовник? Не из любви к делу, а по какому-то, так сказать, стечению обстоятельств житейских...
Ему (Егору Прокудину) уже, в общем, сорок лет, а просвета никакого в жизни нет. Но душа-то у него восстает против этого образа жизни. Он не склонен быть жестоким человеком... И вот, собственно, на этом этапе мы и застаем нашего героя - когда он в последний раз выходит из тюрьмы. И опять перед ним целый мир, целая жизнь".
Заключительная часть работы над картиной совпала у Шукшина с обострением язвенной болезни. Вспоминает В. Фомин: "Я сам своими глазами видел, как буквально умирал, таял на глазах Шукшин, сбежавший из больницы, чтобы исполнить навязанные "исправления" и тем самым спасти картину от худшего. "Калина красная" была уже вся порезана, а самому автору надо было немедленно возвращаться в больницу. Но он боялся оставить фильм в "разобранном" виде, чтобы как-то "зализать", компенсировать нанесенные раны, хотел сам осуществить чистовую перезапись. Смены в тон-студии казались нескончаемыми - по двенадцать и более часов в сутки. Но буквально через каждые два-три часа у Василия Макаровича начинался очередной приступ терзавшей его болезни. Он становился бледным, а потом и белым как полотно, сжимался в комок и ложился вниз лицом прямо на стулья. И так лежал неподвижно и страшно, пока боль не отступала. Он стеснялся показать свою слабость, и его помощники, зная это, обычно уходили из павильона, оставляя его одного. Тушили свет и уходили.
Сидели в курилке молча. Проходило минут двадцать-тридцать. Из павильона выходил Шукшин. Все еще бледный как смерть. Пошатываясь. Как-то виновато улыбаясь. Тоже курил вместе со всеми. Пытался даже шутить, чтобы как-то поднять настроение. Потом все шли в павильон. И снова приступ..."
Фильм "Калина красная" вышел на экраны страны в 1974 году и буквально потряс зрителей. Без преувеличения можно было сказать, что ничего подобного в отечественном кинематографе еще не было. Рассказывает С. Бондарчук: "Помню один из первых просмотров фильма. Это было в Госплане СССР. Так случилось, что до последней минуты мы не знали, будем показывать фильм или нет. Все были очень напряжены, особенно Шукшин. Просмотр все-таки состоялся. Когда фильм окончился, зрители аплодировали и на глазах у многих были слезы, Шукшин все повторял мне: "Ты видишь, им понравилось!" Он ликовал".
На VII Всесоюзном кинофестивале в Баку в апреле 1974 года "Калина красная" была награждена главным призом - первый случай в практике проведения отечественных кинофорумов. Причем жюри специально оговорило свое решение: "Отмечая самобытный, яркий талант писателя, режиссера и актера Василия Шукшина, главная премия фестиваля присуждена фильму киностудии "Мосфильм" "Калина красная".
Кроме этой награды, фильм в дальнейшем соберет и целый букет других: приз польских критиков "Варшавская сирена-73", приз фестиваля в Западном Берлине и приз ФЕСТ-75 в Югославии.
Последний год жизни Шукшина складывался для него на редкость удачно как в плане творческом, так и личном. В 1973 году вместе с семьей он наконец переехал из тесной комнатки на Переяславской улице в новую квартиру на улице Бочкова. В свет выходит новый сборник его рассказов "Характеры", который тут же становится главным событием в прозе и предметом острейших дискуссий. В Большом драматическом театре Г. Товстоногов решается ставить спектакль по пьесе Шукшина "Энергичные люди". (Это было первое сотрудничество Шукшина с театром - до этого он театр не любил, унаследовав эту нелюбовь от своего учителя М. Ромма.) Генеральная репетиция спектакля состоялась в июне 1974 года с участием Шукшина и произвела на него прекрасное впечатление.
И, наконец, он ни на день не забывал о своей давней мечте - поставить фильм о Степане Разине. Несмотря на то что съемки его все время отодвигались на неопределенное время, надежды снять его он не терял. Свое твердое обещание помочь ему в этом деле дал С. Бондарчук, но взамен этой помощи он уговорил Шукшина сняться в его новой картине - "Они сражались за Родину". Шукшину в нем предстояло сыграть роль бронебойщика Лопахина. Съемки должны были проходить в августе - октябре 1974 года на Дону. Так как эти месяцы оказались последними в жизни В. Шукшина, стоит остановиться на них подробнее.
4 сентября в "Литературной газете" был опубликован рассказ Шукшина "Кляуза", который вызвал огромный интерес у читателей (его читал даже сам Л. Брежнев) и жаркие дискуссии. О чем говорилось в этом очерке? Шукшин описывал в нем действительный случай, который произошел с ним несколько лет назад. О сути его рассказывает С. Бондарчук: "Женщина-вахтер нагло оскорбляла Шукшина при детях и посторонних людях. Сначала она не хотела пускать к нему в больницу дочерей, отговариваясь обычным "не положено", хотя к другим больным детей пропустили. Кто-то посоветовал ему "дать ей полтинник". Но он не мог бы никогда "дать". Не умел. Несколько часов спустя та же женщина не пустила к нему писателей, приехавших в Москву специально для делового разговора с ним. Оголтелое хамство вахтерши, которой он ничего плохого не сделал, поразило его. И Шукшин в больничной одежде и тапочках ушел из больницы, несмотря на то что на дворе был декабрь и что врачи поставили ему диагноз "острая пневмония".
Когда рассказ был опубликован, Шукшин получил письмо от врачей этой больницы, которые писали, что он, "оболгав" их персонал, тем самым опорочил всех работников медицины. Шукшин растерялся. Он не знал, что делать. И мы не знали, как ему помочь. Это был период отчаяния, который он не мог вынести..."
Почти весь сентябрь Шукшин находился на Дону, в районе поселка Клетская, на съемках фильма "Они сражались за Родину". График съемок был настолько плотным, что Шукшин даже не смог выбраться в Москву 1 сентября, чтобы проводить дочку Машу в первый класс. Лишь несколько раз он уезжал оттуда: во второй половине месяца в столицу, где начинался подготовительный период фильма "Степан Разин", и в Ленинград, на съемки эпизода в картине Г. Панфилова "Прошу слова" (эпизод снимали 18 сентября, Шукшин играл в нем провинциального драматурга Федора).
К началу октября Шукшин практически полностью завершил роль Лопахина, и ему оставалось отсняться в последнем эпизоде. 4 октября он должен был вернуться в Москву.
Ю. Никулин вспоминал: "Удивительное совпадение. За день до смерти Василий Макарович сидел в гримерной, ожидая, когда мастер-гример начнет работать. Он взял булавку, опустил ее в баночку с красным гримом и стал рисовать что-то, чертить на обратной стороне пачки сигарет "Шипка". Сидевший рядом Бурков спросил:
- Что ты рисуешь?
- Да вот видишь, - ответил Шукшин, показывая, - вот горы, небо, дождь, ну, в общем, похороны...
Бурков обругал его, вырвал пачку и спрятал в карман. Так до сих пор он и хранит у себя эту пачку сигарет с рисунком Василия Макаровича".
Несмотря на этот мистический эпизод, Шукшин 1 октября был в нормальном состоянии, внешне выглядел хорошо. В тот день он позвонил с почты поселка Клетская домой в Москву, интересовался делами дочерей (Маша тогда ходила в первый класс, Оля - в детсад). Жены дома не было, так как еще 22 сентября она улетела на кинофестиваль в Варну. После звонка домой Шукшин вместе с Бурковым сходил в баню, потом вернулся на теплоход "Дунай" (там жили все артисты, снимавшиеся в фильме). Затем до глубокой ночи смотрели по телевизору хоккейный матч СССР - Канада. По его окончании разошлись по своим каютам. Но Буркову почему-то не спалось. Часа в 4 утра он вышел из каюты и в коридоре увидел Шукшина. Тот держался за сердце и стонал. "Валидол не помогает, - пожаловался он. - Нет у тебя чего-нибудь покрепче?" Фельдшерицы той ночью на теплоходе не было (она уехала на свадьбу), но Бурков знал, что у кого-то из артистов есть капли Зеленина. Он сходил и принес их Шукшину. Тот выпил их без меры, запил водой и ушел к себе в каюту. После этого прошло еще несколько часов. Часов в девять утра Бурков вновь вышел в коридор с твердым намерением разбудить Шукшина (именно он делал это ежедневно).
Г. Бурков так рассказывал об этом: "Я постучался к Шукшину. Дверь была не заперта. Но я не вошел, а от двери увидел... рука, мне показалось, как-то... Я чего-то испугался. Окликнул его. Ему же на съемку было пора вставать. Он не отозвался. Ну, думаю, пусть поспит. Опять всю ночь писал.
Я пошел по коридору и столкнулся с Губенко. "Николай, - попросил я, - загляни к Васе, ему скоро на съемку, а он чего-то не встает..."
Он к нему вошел. Стал трясти за плечо, рука как неживая... потрогал пульс, а его нет. Шукшин умер во сне. "От сердечной недостаточности", - сказали врачи. Я думаю, они его убили. Кто они? Люди - людишки нашей системы, про кого он нередко писал. Ну, не крестьяне же, а городские прохиндеи... сволочи-чинуши..."
Тело Шукшина в тот же день доставили в Волгоград, где врач сделал вскрытие в присутствии студентов. Диагноз-сердечная недостаточность. Из Волгограда цинковый гроб на военном самолете доставили в Москву. Гроб был упакован в громадный деревянный ящик с четырьмя ручками. Его сопровождали Бондарчук, Бурков, Губенко, Тихонов, оператор Юсов, другие участники съемочного коллектива. Тело Шукшина привезли в морг Института Склифосовского. Однако там отказались делать повторное вскрытие, мотивируя это тем, что одно вскрытие уже было произведено. Затем началась длинная эпопея с устройством похорон. Мать Шукшина Мария Сергеевна хотела увезти тело сына на родину, в Сростки, и там похоронить. Но ее уговорили оставить его в Москве. Местом захоронения первоначально было определено Введенское кладбище. Там уже приготовили могилу, однако Шукшин в нее так и не лег (в феврале 1975 года в ней похоронили знаменитого боксера В. Попенченко). Дело в том, что в день похорон Бондарчук лично отправился в Моссовет и стал требовать, чтобы Шукшина похоронили на Новодевичьем кладбище. Дело тогда дошло до самого Председателя Совета Министров СССР А. Косыгина. "Это тот Шукшин, который о больнице написал?"- спросил он, имея в виду статью "Кляуза" в "Литературной газете". Брежнев в тот момент находился в ГДР, и Косыгин взял ответственность за решение этой проблемы на себя. В конце концов вопрос с Новодевичьим решился положительно.
В тот день таксисты Москвы решили, как один, колонной проехать мимо Дома кино, где проходила панихида, и клаксонами подать сигнал печали. Однако сделать это им не позволили. В Союзе кинематографистов узнали об их инициативе и тут же связались с КГБ. Сразу после этого по всем таксомоторным паркам последовало распоряжение задержать выезд машин в город.
Вспоминает Э. Климов: "Мы приехали с Ларисой Шепитько в Дом кино, где шло прощание. Гроб на постаменте. Океан слез. Сменялся через каждые несколько минут траурный караул. И мы готовимся надеть эти жуткие повязки. И в этот момент меня берет за рукав некто Киященко. Был такой редактор в Госкино, возглавлял куст исторического фильма. И он ко мне так приникает и шепчет: "Мы тут посоветовались, - а гроб рядом стоит, в двух шагах, - что "Разина", Элем Германович, вам надо делать. В ЦК мы уже проконсультировались..." Меня будто током ударило! Разворачиваюсь - пришиб бы его, наверное, на месте. Лариса успела меня схватить: "Ты что?! Здесь..."
Когда гроб выносили из Дома кино, еще не знали даже, где хоронить придется. На госнебесах еще решали, чего Вася достоин, чего не достоин. Пронесся слух: на Немецком! В последнюю минуту принесли другую весть: разрешили на Новодевичьем..."
Вспоминает А. Заболоцкий: "К концу панихиды Мария Сергеевна (мать В. Шукшина) просит меня вытащить из гроба калину, от нее сырости много - ее действительно много нанесли, - и я, убирая маленькие веточки, под белым покрывалом нащупал много крестиков, иконок и узелков... Много прошло возле гроба россиян, и они положили заветное Шукшину в гроб. Его хоронили как христианина. Во время последнего прощания родных Лидия Федосеева отдала мне скомканную прядь его волос, ничего не сказала. Я опустил в гроб и эти волосы (а может, по ним-то можно было определить, от какой же "интоксикации" наступила смерть. Ведь говорил же врач в Волгограде: смерть от интоксикации кофейной или табачной).
Еще помню четко: когда несли гроб уже после прощального митинга на кладбище к месту захоронения, сбоку, через нагромождения могил, пробирался рысцой испуганный директор студии имени Горького Григорий Бритиков. Он походил на возбужденного школьника, совершившего шалость. И мне вдруг вспомнились слова Макарыча на кухне: "Ну мне конец, я расшифровался Григорию. Я ему о геноциде против России все свои думы выговорил".
После смерти Шукшина в народе внезапно поползли слухи о том, что умер он не естественной смертью - мол, ему помогли это сделать. Эти слухи циркулировали даже в кинематографической среде: сам Бондарчук однажды признался, что какое-то время считал, что Шукшина отравили. Но эти слухи никакого реального подтверждения так и не нашли. И вот в наши дни о них заговорили вновь. Вот несколько публикаций.
Л. Федосеева-Шукшина: "Я уверена: в ту ночь произошло убийство. Чего Вася и боялся последнее время. Он показывал мне список своих родственников, которые умерли насильственной смертью. Боялся, что разделит их участь. Предчувствие было. (Согласно этому списку, в разное время погибли: отец, семь дядьев и два двоюродных брата Шукшина.} "Господи, дай скорее вернуться со съемок! Дай бог, чтоб ничего не случилось!" Случилось.
Когда на разных уровнях заявляют, что не выдержало больное сердце Шукшина, мне становится больно. Вася никогда не жаловался на сердце. Мама моя в тот год сказала: "Вася, ты такой красивый!" - "Это полынь! - ответил он. - Я такой же крепкий, такой здоровый, что полынь степная".
Он чувствовал себя прекрасно, несмотря на безумные съемки, ужасную войну, которую снимал Бондарчук.
Как раз перед съемками "Они сражались за Родину" Бондарчук устроил его на обследование в самую лучшую цековскую больницу. Врачи не нашли никаких проблем с сердцем. У меня до сих пор хранятся кардиограммы. Там все слава богу.
Говорят, что умер оттого, что много пил. Ерунда! Вася не брал в рот ни капли почти восемь лет."
Что странно: ни Сергей Федорович Бондарчук, ни Георгий Бурков, ни Николай Губенко, Юрий Владимирович Никулин, ни Вячеслав Тихонов - ни один человек так и не встретился со мной позже, не поговорил откровенно о той ночи. Я так надеялась узнать именно от них, что же случилось на самом деле..."
Н. Дранников, председатель Волгоградского филиала Центра В.М. Шукшина, житель станицы Клетской: "В станице до сих пор ходят разные толки. И поводы для этого есть. Еще жива Евгения Яковлевна Платонова, партизанка, жена Героя Советского Союза Венедикта Платонова. Ее брали понятой. Евгения Яковлевна рассказывает, что, когда они приехали на "Дунай", все в каюте было разбросано. Будто кто-то что-то искал. А сам Шукшин лежал скорчившись. Это никак не вяжется с фотографией криминалистов, где Василий Макарович лежит в ухоженной каюте, прикрытый одеялом, словно спит.
А еще вызывают подозрение у станичников чистые сапоги. Зачем ему надо было мыть кирзачи? Ведь назавтра вновь с утра на съемку. Кто и что смыл с его сапог, гадают наши казаки".
А. Ванин: "Есть, есть тайна в смерти Шукшина. Думаю, многое мог бы поведать Жора Бурков. Но он унес тайну в могилу. На чем основаны мои подозрения? Раз двадцать мы приглашали Жору в мастерскую скульптора Славы Клыкова, чтоб откровенно поговорить о последних днях Шукшина. Жора жил рядышком. Он всегда соглашался, но ни разу не пришел. И еще факт. На вечерах памяти Шукшина Бурков обычно напивался вусмерть. Однажды я одевал, умывал его, чтоб вывести на сцену в божеском виде. Тот хотел послать меня подальше. Я ответил: "Жора, не забывай про мои кулаки!" И тогда пьяный Бурков понес такое, что мне стало страшно и еще больше насторожило..."
Что именно "понес" Бурков, Ванин не сообщает, однако завесу тайны над этим приподнимает актер А. Панкратов-Черный. Вот его слова:
"Жора Бурков говорил мне, что он не верит в то, что Шукшин умер своей смертью. Василий Макарович и Жора в эту ночь стояли на палубе, разговаривали, и так получилось, что после этого разговора Шукшин прожил всего пятнадцать минут. Василий Макарович ушел к себе в каюту веселым, жизнерадостным, сказал Буркову: "Ну тебя, Жорка, к черту! Пойду попишу". Потом Бурков рассказывал, что в каюте чувствовался запах корицы - запах, который бывает, когда пускают "инфарктный" газ. Шукшин не кричал, а его рукописи - когда его не стало - были разбросаны по каюте. Причем уже было прохладно, и, вернувшись в каюту, ему надо было снять шинель, галифе, сапоги, гимнастерку... Василия Макаровича нашли в нижнем белье, в кальсонах солдатских, он лежал на кровати, только ноги на полу. Я видел эти фотографии в музее киностудии имени Горького. Но почему рукописи разбросаны? Сквозняка не могло быть, окна были задраены. Жора говорил, что Шукшин был очень аккуратным человеком. Да и Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина рассказывала о том, что, когда они жили в однокомнатной квартире, было двое детей, теснота, поэтому все было распределено по своим местам - машинка печатная, рукописи и так далее. А когда дети спали, курить было нельзя, и Шукшин выходил в туалет, клал досочку на колени, на нее тетрадку и писал. Разбросанные по полу каюты рукописи - не в стиле Шукшина, не в его привычках: кто-то копался, что-то искали.
Такими были подозрения Буркова. Но Жора побаивался при жизни об этом говорить, поделился об этом со мной как с другом и сказал: "Саня, если я умру, тогда можешь сказать об этом, не раньше".
Вот любопытный список примет, которые сопутствовали смерти В. Шукшина:
Летом 1972 года дочки Шукшина гостили у бабушки под Ленинградом. Тесть поймал в лесу зайчонка, и к осени они привезли его с собой в Москву. Заяц подрос, бешено кидался на стены, шторы. Пришлось сдать его в Уголок Дурова. Когда Лидия Николаевна рассказала про "живую игрушку" Марии Сергеевне Шукшиной, та запричитала: "Ой, Лида, притащить из леса живого зайца - к смерти!"
Федосеевой-Шукшиной вручили сценарий фильма "Они сражались за Родину", в котором ей предстояло сыграть одну из ролей. И выяснилось, что сыграть ей предстоит... вдову. И это при живом-то муже! "Да ты играй не вдову, а женщину", -успокаивал ее Шукшин. Увы, роль оказалась пророческой.
В тот последний вечер 1 октября с почты Шукшин с друзьями отправился в баню к станичнику Захарову. И надо же! Въезжая во двор, задавили любимого кота хозяина. Шукшин, никогда прежде не замеченный в суеверии, почему-то расстроился: "Это к несчастью!" И через несколько часов его настигла смерть...
Владимир Высоцкий и Василий Шукшин. Яркие, ни на кого не похожие мастера, крупнейшие явления отечественной культуры. В последние годы эти имена всё чаще упоминаются рядом, в сознании многих они оказались если и не ближайшими друзьями, то, во всяком случае, добрыми приятелями.
Тому, на мой взгляд, две причины. Во-первых, многократно повторенный Высоцким во время его публичных выступлений рассказ о начале творчества, о знаменитом ныне доме в Большом Каретном переулке. Там, в квартире Левона Кочаряна, собирались в начале 1960-х годов молодые артисты, поэты, художники, врачи, следователи – всех и не перечтёшь. Некоторые из завсегдатаев и гостей Кочаряна приобрели потом немалую славу (а там бывали режиссёр А.Тарковский, художник И.Глазунов, писатель Ю.Семёнов и многие другие), остальные же, простившись с буйной молодостью, повели жизнь спокойную, в яркие тона не окрашенную.
К середине 1970-х годов, когда Высоцкий впервые стал вставлять в свои выступления рассказ о тех днях, двоих из компании уже не было в живых – самого Л.Кочаряна и В.Шукшина, – причём, Высоцкий каждый раз обязательно упоминал обоих. Поскольку текст воспоминаний чуть ли не дословно переносился Высоцким из концерта в концерт, то у многих людей, слушавших записи его выступлений, имя Шукшина оказалось как бы спаянным с именем самого Высоцкого.
Во-вторых, у Шукшина и Высоцкого оказалась общая дата – 25 июля. На это число приходится день рождения Шукшина и день смерти Высоцкого.
О значении 25 числа в жизни Высоцкого, на которое пришлись рождение, кончина, и регистрация двух браков, не рассуждал, кажется, ещё никто. А вот общее число с Шукшиным подметили, и с тех пор не проходит года, чтобы кто-нибудь не напечатал в этот день статью, посвящённую обоим. Пишут не только журналисты, но и знатоки-высоцковеды, к примеру, – автор широко известного справочника "В.С.Высоцкий. Что? Где? Когда?" А.Эпштейн.*1
Конечно, сегодня, когда со времён шумных молодёжных сборищ на Большом Каретном прошло уже около сорока лет, многие детали просто невосстановимы. Однако на радость исследователям, многие непосредственные участники тех событий оставили воспоминания. Именно в анализе этих воспоминаний – ключ к решению поставленной нами задачи.
Итак, что представляла собой компания молодых с Большого Каретного? Друг юности Высоцкого А.Утевский в своей книге воспоминаний перечисляет около сорока имён, при этом называет далеко не всех. Понятно, что столько людей закадычными друзьями быть не могут. "В наш тесный круг не каждый попадал..." про сорок человек не скажешь. Ясно, что были друзья, а были и просто знакомые.
Такое предположение полностью подтверждается словами трагически погибшего в 1995 году писателя А.Макарова: "В нашей компании существовала такая "первая сборная", в которую входили самые близкие друзья: Кочарян, Утевский, Гладков, Георгий Калатозишвили... "Вторая сборная" – это Высоцкий, Акимов, Свидерский, Кохановский... Они же тогда были ещё почти пацаны".*2
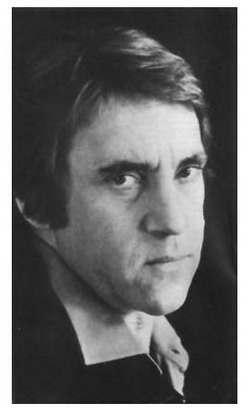 Как на Большой Каретный попал Шукшин? Ответ даёт тот же Макаров:
Как на Большой Каретный попал Шукшин? Ответ даёт тот же Макаров:
"Однажды я познакомился с Василием Макаровичем Шукшиным и привёл его на Каретный". (Обратим внимание: единственным из всех перечисленных друзей по имени-отчеству назван Шукшин).
"Компания была большая, – вспоминает Э.Борисов. – Был основной состав или, как говорил Макаров, "первая сборная ", была и вторая сборная – это ребята помладше.
Приходил Василий Макарович Шукшин (выделено мной, – М.Ц.). Квартиры в Москве у него тогда не было, и иногда Василий Макарович оставался ночевать на Большом Каретном".*3
Вернёмся к выделенной фразе. Итак, как мы видим, Шукшин к Кочаряну "приходил", но особенно частым гостем не был. А, во-вторых, опять обратим внимание: не "Вася" приходил, даже не "Василий", а "Василий Макарович". А ведь в описываемое время уровень популярности обоих был прямо противоположен нынешнему: Шукшин был начинающим прозаиком и режиссёром, а Борисов – чемпионом страны по боксу, членом сборной СССР, участником Олимпиады. Видимо, разница уровней ощущалась уже тогда. И если разницу эту чувствовали и известный боксёр Борисов, и резкий, очень уверенный в себе Макаров, то что же говорить о совсем молодом Высоцком? Шукшин был и старше намного, да и различие в знаниях, в образовании, в вопросах, которые занимали обоих, было значительным.
Тот же Э.Борисов вспоминает, что однажды на вечере Шукшина в Доме журналиста он поразился, как Высоцкий буквально впитывал рассуждения Шукшина о Толстом и толстовстве. Вспомним: это было время, когда ни "Охоты на волков", ни "Баньки по-белому", ни "Коней привередливых" у Высоцкого ещё не было. Были "Нинка", "Рыжая шалава", "Катя-Катерина", – а тут вдруг разговор о толстовстве. Поневоле будешь глядеть снизу вверх!
Версию о том, что близких отношений между Шукшиным и Высоцким не было, подтверждает И.Кохановский, ближайший друг Высоцкого тех лет:
"Вы знаете, ради красного словца Володя иногда мог сказать всё, что угодно. Был у него такой грех... Вася Шукшин был приятелем Лёвы Кочаряна, и он, конечно, иногда у Кочаряна бывал. Но лично при мне он заходил всего несколько раз, это были единичные случаи. Шукшин не был членом нашей компании, а Володе почему-то позднее захотелось добавить его имя...".*4
Творческие пути Высоцкого и Шукшина практически не пересекались. Правда, однажды они снимались в одном фильме. Было это в 1962 году, когда режиссёр А.Столпер ставил по сценарию К.Симонова картину "Живые и мёртвые". Однако неизвестно, встречались ли они на съёмках, поскольку роль Шукшина была довольно значительной, а Высоцкий появляется там всего в трёх эпизодах и произносит лишь одну фразу.
Впрочем, предполагалось, что был у них ещё один контакт в кино. В 1963 году Шукшин приступил к работе над картиной "Живёт такой парень". Через много лет, в июле 1980 г., Высоцкий сказал на концерте: "Вася Шукшин... хотел, чтобы я пробовался у него. Но он уже раньше обещал Куравлёву".*5 А за три года до того в интервью донецкой газете "Комсомолец Донбасса" выразился ещё более определённо: "Мне особенно обидно сегодня, что так и не удалось сняться ни в одном из фильмов Шукшина".*
Эти слова начисто опровергают долго ходившую в кругах высоцковедов легенду, что Высоцкий всё-таки снимался в картине "Живёт такой парень".
Вспоминает А.Макаров: "Могу утверждать, что никаких разговоров о съёмках Володи в фильме не было... А когда он говорил на просмотре: "Смотрите, вот сейчас я появлюсь!", – то это может относиться к персонажу по имени Хыц. Эпизод такой: у героя фильма намечаются неприятности с местными парнями в клубе. А Хыц подходит и говорит: "Я очень извиняюсь, в чём тут дело?"".*7
Как пошутил мой приятель, – исполнитель роли Хыца похож на Высоцкого, "як свыня на коня". Видимо, просто неверно истолкованы слова Макарова. Надо прочесть ещё две строки, и всё становится понятным:
"Когда я смотрел этот фильм, то подумал, что именно с такой интонацией, с такой улыбочкой подходил иногда Володя. Так что, я думаю, его слова относятся именно к этому персонажу".*8
Вот и ответ: сам Высоцкий заметил сходство интонаций и просто пошутил: дескать, смотрите, вот он я.
Один из школьных приятелей Высоцкого Л.Эгинбург высказался ещё более категорично: "Он в кадре!... Володя же в кадре, – знаменитая сцена "в клубе"! Я это совершенно чётко знаю. О Василии Макаровиче говорить, наверное, не надо, – вы всё знаете. И вот они едут на Алтай, на съёмки, – это Оловянный рудник, – поселение зэковское. Володя потом отлично рассказывал, как там за водкой женщины ходят".*9
И всё-таки в фильме Высоцкого нет. Разве что – где-то на третьем плане в массовке, где узнать его нет никакой возможности.
Об участии Высоцкого в последующих фильмах Шукшина речь также не заходила. Почему? Видимо, по причине неприятия Шукшиным того, что делал в кино Высоцкий.. Хорошо ведь известно, как старались помочь друг другу приятели с Большого Каретного. Скажем, Л.Кочарян попросил режиссёра Э.Кеосаяна снять Высоцкого в фильме "Стряпуха". Высоцкий, в свою очередь, предложил Кочаряну снимать в картине "Один шанс из тысячи" их общего друга О.Халимонова. К тому же, в 1960-е годы у Высоцкого, обременённого двумя детьми и неработающей женой, с деньгами было, мягко говоря, напряжённо. Тогда он взялся бы за любую роль, даже не заглядывая в сценарий (и брался, – жизнь заставляла). От Шукшина, однако, предложений не последовало, что вряд ли свидетельствует о близкой дружбе, да и о признании Шукшиным дарования Высоцкого-актёра.
Л.Абрамова заметила однажды в интервью: "Сейчас все склонны несколько переоценивать Володину дружбу с Андреем Тарковским и Василием Шукшиным... Хотя и Тарковский, и Шукшин очень хорошо к нему относились, – что тут говорить, – но близости и простоты отношений у них не было. И не был Володя им необходим как актёр".*10
Известно лишь одно высказывание Шукшина об актёрской работе Высоцкого. Как вспоминает Л.Федосеева-Шукшина, "я помню такую фразу Василия Макаровича, когда он после премьеры "Гамлета" пришёл домой. Я спросила: "Как спектакль?" Он ответил: "Гамлет с Плющихи..."".*11 После такой оценки делается понятным, почему не снимал Шукшин Высоцкого.
Ещё один раз пересеклись творческие пути Шукшина и Высоцкого в 1972 г. В радиоспектакле "За Быстрянским лесом", поставленном по роману Шукшина "Любавины", Высоцкий озвучивал небольшую роль Кондрата Любавина. Этой своей работе Высоцкий, очевидно, большого значения не придавал, никогда в концертах о ней не рассказывал, а спектакль остался лишь в памяти знатоков-высоцковедов.
В последующие годы жизнь Высоцкого и Шукшина протекала в различных плоскостях. Да и прочие члены хоть "первой", хоть "второй" сборной уже имели другие заботы. "Я не помню случая, чтобы мы собирались, скажем, Шукшин, Тарковский, Высоцкий и я, вместе в последние годы. Не было такого", – категорично заявляет А.Макаров.*12 Так что представление о дружбе Шукшина с Высоцким, сложившееся у многих, подтверждения не получает. Но и чужими друг другу они, конечно, не были. Видимо, расходясь по эстетическим принципам, возможно, и по жизненным установкам, они сохраняли глубокое уважение друг к другу. "Чисто человеческое "понять друг друга" и было, по-моему, главным в их отношениях", – замечает А.Утевский в книге "На Большом Каретном".*13
И удалось, кажется, в конце концов, найти общее дело, да уже поздно было. "Не пришлось мне встретиться в кино с Шукшиным, хотя он хотел, чтобы я играл у него в "Разине", если бы он его делал. Его больше нет, Васи...", – сказал Высоцкий на выступлении 16 июля 1980 года. Через девять дней не стало и его самого.
Прав, наверное, поэт Р.Рождественский, сказавший: "Знаю, что они похожи, Высоцкий и Шукшин. Похожи истинностью своего таланта, похожи правдой, похожи болью, которая переполняла их сердца,... и похожи любовью к людям".
Тайна их отношений ушла вместе с ними. Нам остаётся лишь строить робкие предположения...
Высоцкий и Шукшин -- два брата по духу, по корню, по "тяжкому грузу" на горбу, по Божьему дару и таланту, по великому почитанию в народе... Оба -- самородки...
Достаточно вспомнить, как хоронили Шукшина, а затем и Высоцкого... Всенародное горе охватывало страну оба раза... Так народ оплакивает только народных заступников, народных гениев, праведников, родомыслов...
Из интервью Высоцкого. В.С..
Мы про Васю никто не ждали, что он умрёт. Это было невозможно для всех для нас. Нам казалось, что он очень будет долго жить. А я приехал из Ленинграда, бросил спектакль, отменили в Ленинграде и поехал на панихиду в Москву. Ехал на машине, ехал пять часов восемьсот километров, пять часов я ехал из Ленинграда. Сто шестьдесят я как врезал, только заправился один раз - и приехал в Москву. Было очень много людей, была громадная... такие проводы ему устроили. И стояла, значит, толпа людей в Доме Кино в Москве, а сверху висел портрет его, и все, что говорили, люди вот... Они такую глупость говорили, по сравнению с такой великой смертью они говорили всякую ерунду. Ну, когда уж нету слов, которые они могут... которые рядом со смертью, с такой большой смерью, нет таких слов. И только люди все смотрели на эту фотографию, которая сверху висела, потому что невероятная фотография просто. Из-за того, что он внизу лежал мёртвый, эта фотография была как... как -будто он... вот как-будто бы это он живой, а там... Понимаете? Фото было, невероятное просто. И потом поехали все на Новодевичье кладбище, стали искать место. И там были товарищи, которые там... "Ну вот место". А он говорит: "Как-то нехорошо, здесь была чья-то могила чужая, там же кто-то... не по-христиански". А сзади стоял директор кладбища, которому это очень понравилось. И он говорит: "Ну что, ребята?" Мы говорим: "Вот мы друзья Шукшина". Он говорит: "Я вам найду место". И куда-то повёл их и нашёл... там такая рябина, вот так вот она растёт. Там его похоронили, там рядом Чайковский. И вечером послушал, Женя Евтушенко написал стихи на смерть Шукшина, там несколько очень хороших строк было. Но они были такие однодневные стихи, под впечатлением. А я потом написал посвящённую ему песню. Ну это стихи написал, потом я их спел. И хотел их напечатать, но так как там было не только про него, а про всех друзей его, вот которые... про которых я рассказывал, которые вместе жили, то они как-то закант... не пошли"
(фонограмма домашнего выступления у Стефана Димитриева (?), г. Велико-Тырново, 17 сентября 1975 года)
Разметалось село в предгорьях,
Где Катунь расплескалась светло,
Знало вдоволь и лиха, и горя
Стародавнее это село.
Здесь мальчишка торил дорожку,
Пьяный ветер вдыхал с лугов,
В огороде тяпал картошку,
На Катуни тягал чебаков…
Край сибирский. Пейзаж неброский.
Бьет о берег Катуни волна.
Знает каждый в России, что Сростки –
Это родина Шукшина.
(Кондаков.)
Во все времена, везде много читал. Решил, что смогу, пожалуй, сдать экстерном экзамены на аттестат зрелости. Сдал… Считаю это своим маленьким подвигом – аттестат. Такого напряжения сил я больше никогда не испытывал. После этого работал учителем вечерней школы рабочей молодежи…
Учитель я был, честно говоря, неважнецкий (без специального образования, без опыта), но не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-нибудь важное, интересное и интересно. (Я преподавал русский язык и литературу.) Я любил их в такие минуты. И в глубине души не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется счастье”.
Есть река на Алтае – Катунь. Злая, белая от злости. Прыгает по камням, бьет их в холодную грудь крутой яростной волной, рвется из гор. А то вдруг присмиреет в долине – тихо, слышно, как гуси кричат, как утки в затоне плывут к островам. Отдыхает река. Чистая, светлая, каждую песчинку на дне видно, каждый камешек.
(Из воспоминаний Шукшина.)
“Был 1954 год. Шли вступительные экзамены во ВГИК. Подготовка моя оставляла желать лучшего, специальной эрудицией я не блистал и всем своим видом вызывал недоумение приемной комиссии…
Потом произошло знакомство с Михаилом Ильичом Ромом. Абитуриенты в коридоре нарисовали страшную картину человека, который на тебя сейчас глянет и испепелит. А посмотрели на меня глаза удивительно добрые. Стал расспрашивать больше о жизни, о литературе…”
Чтец. “Ужас экзамена вылился для меня в очень человечный и искренний разговор. Вся судьба моя тут, в этом разговоре, наверное, и решилась. Правда, предстояла еще отборочная комиссия, которую тоже, видимо, изумило, кого набирает Михаил Ильич…
Председатель комиссии иронически спросил:
- Белинского знаешь?
- Да, - говорю.
- А где он живет сейчас?
В комиссии все затихли.
- Виссарион Григорьевич? Помер, - говорю, и стал излишне горячо доказывать, что Белинский “помер”. Ромм все это время молчал и слушал. На меня смотрели все те же бесконечно добрые глаза… Мне везло… на умных и добрых людей”.
Леонид Попов.
Поздно: учиться “петь – танцевать”,
Шаркать подошвой по жаркому кругу.
Стыдно: поклоны впрок раздавать,
Пылко влюбляться в столичную вьюгу,
Верить пожатью казенной руки,
Честью платить за натужную милость,
Время: свои подытожить долги,
Благо достаточно их накопилось.
Время: припомнить былые грехи,
Чтоб понапрасну душа не гордилась.
Время: вчитаться в чужие стихи,
Чтоб от своих голова не кружилась.
Время: последнюю выгрести медь,
Но до копейки за все расплатиться
И до рассвета успеть умереть,
Чтоб на рассвете свободным родиться!
Главное для В.Шукшина – не где человек живет, а как он живет и какой это человек. Это же несерьезно: требовать, чтобы художник написал о студентах, о милиции, об ученых, об интеллигенции. Главное – иметь мужество говорить правду. И Шукшин его имел.
Видим мы в окружающей жизни что-то дурное – и привычно твердим: “пережитки прошлого в сознании людей”, “тлетворное влияние Запада”. А Шукшину хватило смелости посмотреть в лицо жизни. И вот со страниц рассказа “Обида” раздался горестный крик Сашки Ермолаева: “До каких пор мы сами будем помогать хамству… Ведь мы сами расплодили хамов, сами! Никто нам их не завез, не забросил на парашютах…”
В.Шукшина не пугают резкие, неожиданные поступки героев. Бунтовщики нравятся ему, потому что эти люди на свой несуразный лад защищают человеческое достоинство.
Писатель ненавидел людей самодовольных, сытых, успокоенных, он хотел растревожить нашу душу, показывая правду, а от него требовали красивых героев и благородных жестов. В.Шукшин писал: “Как у всякого, что-то делающего в искусстве, у меня с читателями и зрителями есть еще отношения “интимные” - письма. Пишут. Требуют. Требуют красивого героя. Ругают за грубость героев, за их выпивки и т.п… А ведь чего требуют? Чтобы я выдумывал. У него, дьявола, живет за стенкой сосед, который работает, выпивает по выходным (иногда – шумно), бывает, ссорится с женой… В него он не верит, отрицает, а поверит, если я навру с три короба; благодарен будет, всплакнет у телевизора, умиленный, и ляжет спать со спокойной душой”. В.Шукшин хотел разбудить нашу совесть, чтоб задумались, что с нами происходит.
В искусстве уютно быть сдобной булкой французской,
Но так не накормишь ни вдов, ни калек, ни сирот.
Шукшин был горбушкой с калиною красной вприкуску,
Черняшкою той, без которой немыслим народ…
Когда мы взошли, на тяжелой закваске мужицкой,
Нас тянет к природе, к есенинским чистым стихам.
Нам с ложью не сжиться,
В уюте ужей не ужиться,
И сердце как сокол,
Как связанный Разин Степан… (Е.Евтушенко “Памяти Шукшина”.)
Он не вышел ни званьем, ни ростом.
Не за славу, не за плату, -
На свой необычный манер, -
Он по жизни шагал над помостом –
По канату, по канату,
Натянутому, как нерв!
Посмотрите! Вот он без страховки идет!
Чуть правее наклон – упадет, пропадет!
Чуть левее наклон – все равно не спасти!..
Но, должно быть, ему очень нужно пройти
Четыре четверти пути.
И лучи его с шага сбивали,
И кололи, словно лавры.
Труба надрывалась, как две!
Крики “браво!” его оглушали,
А литавры, а литавры –
Как обухом по голове!..
Он смеялся над славою бренной,
Но хотел быть только первым.
Такого попробуй угробь!
Не по проволоке над ареной –
Он по нервам – нам по нервам –
Он шел под барабанную дробь!
Посмотрите! Вот он без страховки идет!
Чуть правее наклон – упадет, пропадет!
Чуть левее наклон – все равно не спасти!
Но – замрите! Ему остается пройти
Не больше четверти пути.
(В.Высоцкий “Канатоходец”.)
Из письма В.Шукшина Глебу Горышину.)
“Глебович! Что это ты загрустил там, верста коломенская? Жизнь так прекрасна! И удивительна. Смотри, как я: попишу, попишу – выйду на балкон, повою – и опять писать.
Такая бодрость охватит, что сил нет. Хочется рвать и метать. Метать – это не знаю, что такое, а рвать – пожалуйста, корзина рядом. Рвем…
А чтобы серьезно, так “я уже тебе скажу”: хорошо, если бы мы все-таки выдюжили. Не видел, как дуги гнут? Березку распаривают и – осторожно, постепенно сгибают. Бывает – ломается. Мужик… запаривает новую.
Очень меня как-то тронуло твое письмо. И – сижу и думаю: как же нам быть? И ничего не могу придумать, кроме как – выдюжить.
Милый мой, понимаю всего тебя от пят до макушки. А если учесть твой рост, то выходит, что понимаю много”.
(Из рабочих записей В.Шукшина.)
- “Сейчас скажу красиво: хочешь быть мастером, макай свое перо в правду. Ничем другим больше не удивишь”.
- “Добрый, добрый… Эту медаль носят через одного. Добро – это доброе дело, это трудно, это не просто. Не хвалитесь добротой, не делайте хоть зла!”
- “Когда нам плохо, мы думаем: “А где-то кому-то хорошо”. Когда нам хорошо, мы редко думаем: “Где-то кому-то плохо”.
- “И что же – смерть? А листья зеленые. (И чернила зеленые.)”
- “Я – сын, я – брат, я – отец… Сердце мясом приросло к жизни. Тяжко, больно – уходить”.
Нет с нами большого писателя – В.М.Шукшина. Но остались его книги, его мысли… И каждый его рассказ заставляет нас задуматься о серьезных проблемах современности, о жизни, о поведении человека, его поступках.
И вновь вспоминаются слова писателя: “Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту… Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания – не отдавай всего этого за понюх табаку… Мы умели жить. Помни это. Будь человеком”.
БЕЗ НЕГО НАРОД НЕПОЛНЫЙ.......
В. М. Шукшин прожил недолгую жизнь. Но его книги, фильмы, сама незаурядная личность художника по-прежнему привлекают людей. Его творчество, воплощённые в художественной форме раздумья о человеке и обществе не утратили актуальности, а эстетическая оригинальность и совершенство его литературных произведений обеспечили наследию Шукшина прочное место в истории литературы ХХ века.
В 1958 г. сыграл первую главную роль в фильме М. Хуциева «Два Федора». В этом же году в центральной печати был напечатан первый рассказ Шукшина «Двое на телеге». В 1963 г. вышла его первая книга – «Сельские жители». С этого года работает режиссером на киностудии имени М. Горького, снимает свой фильм «Живет такой парень», который был удостоен главной премии на фестивале в Венеции. К Шукшину приходит всемирная известность.
В 1965, 1969, 1972 гг. на экраны страны выходят фильмы Шукшина «Ваш сын и брат», «Странные люди» и «Печки-лавочки». Слава актера, режиссера и писателя будет сопровождать Василия Шукшина до конца жизни.
В 1968 г. в издательстве «Советский писатель» вышел сборник рассказов «Там, вдали», в 1973 – сборник «Характеры», в 1974 – «Беседы при ясной луне».
В 1974 г. выходит «Калина красная», где Шукшин выступил как сценарист, режиссер и актер, а сам фильм стал явлением в советском кинематографе.
В мае 1974 г. начались съемки фильма «Они сражались за Родину», где Шукшин играл роль Петра Лопахина. В июне был сдан в издательство роман «Я пришел дать вам волю».
2 октября во время съемок фильма «Они сражались за Родину» в станице Клетской Волгоградской области Шукшин скоропостижно скончался.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
В 1976 г. ему присуждена Ленинская премия за достижения в кинематографии.
Андрей Вознесенский
СМЕРТЬ ШУКШИНА
Хоронила Москва Шукшина,
хоронила художника, то есть
хоронила Москва мужика
и активную совесть.
Он лежал под цветами на треть,
недоступный отныне.
Он свою удивленную смерть
предсказал всенародно в картине.
В каждом городе он лежал
на отвесных российских простынках.
Называлось не кинозал —
просто каждый пришел и простился.
Он сегодняшним дням — как двойник.
Когда зябко курил он чинарик,
так же зябла, подняв воротник,
вся страна в поездах и на нарах.
Он хозяйственно понимал
край как дом — где березы и хвойники.
Занавесить бы черным Байкал,
словно зеркало в доме покойника.
Как формировался ШУКШИНСКИЙ ХАРАКТЕР.....
Говорим много лет о «характерах» Шукшина, но не всегда отдаем себе отчет, что и сам он был характер, проявлял себя ярко с детских еще лет, был горазд на всякие «штуки» и выдумки. Главное же – не терпел никакой, мало—мальской даже, обиды, ни ровеснику, ни взрослому не спускал. Сколько вроде влетало ему за это от матери – все равно! Оскорбил его чем—то, скажем, сосед, в годах уже мужчина, так он – два дня примеривался – выбил—таки из рогатки глаз соседской свинье да еще так при этом рассчитывал, чтобы она не в чужой, а в свой огород овощи подъедать ходила (случай этот, в разных вариациях, упоминается в нескольких рассказах и сценариях). А уж с ровесниками, «годками» или даже постарше ребятами… Тут как нельзя лучше подходит к нему есенинское:
Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.
И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет».
(С. Есенин)
Это ведь он и о себе, пацане, говорит – вспоминает от лица одного из героев в рассказе «Наказ»: «Такой – щербатень—кий, невысокого росточка… но подсадистый, рука такая… вроде не страшная, а махнет – с ног полетишь. Но дело не в руке… душа была стойкая. Ах, стойкая была душа!»
Не драчун, нет, а, так сказать, поборник мальчишеской справедливости. Село Сростки было большое (оно и сейчас немалое), и делилось оно издавна на разные части, которые назывались Баклань, Низовка, Дикари, Мордва, Голоженка. Подростки, юноши и даже женатые мужики, живущие в разных частях, враждовали между собой («Бывало, девку в Мордве лучше не заводи: и девке попадет, и тебе ребра пересчитают»). Так повелось еще с дореволюционных времен и тянулось с перерывами, вплоть до войны: дурной обычай искоренить не просто. Васька—безотцовщина, как его иногда называли товарищи тех лет, был в числе мальчишеских заводил и атаманов. «Совсем от рук отбился, Марья—то прямо уж и не знает, что с ним, таким лоботрясом, и делать—то, – ничего не слушает…» – в таких примерно и даже еще в более хлестких выражениях сообщали далеко живущей родне в письмах сросткин—ские родственники о «непутевом Ваське». И вообще—то он не ахти как учится, а то и вовсе прогуливает уроки – собак гоняет да в бабки играет.
В рассказе («Далекие зимние вечера») – Ванька, в другом – Петька, в третьем – Витька… Но повсюду в произведениях Шукшина «о детстве» действует, в сущности, один и тот же герой – мальчишка, подросток военных лет – герой и характер явно автобиографический. Это подтверждается и анализом «детских» рассказов Шукшина, и воспоминаниями матери Василия Макаровича, а также его односельчан – товарищей по мальчишеским играм.Это подтвердил и сродный (двоюродный) брат Шукшина, ныне известный художник, Иван Попов.
Они росли вместе, разница в годах – Попов чуть старше – была небольшая. Потом, после войны, жизнь на много лет развела Василия с «браткой» (оба уехали из Сросток), а потом снова свела, подружила и, что особенно важно, сблизила духовно. Здесь же отметим, что Шукшин спрашивал брата, перед тем как публиковать цикл рассказов «Из детских лет Ивана Попова»: «…я тут, Ваня, о нашем детстве безотцовском написал, назвал героя – это я, конечно, но и от тебя много взято, один же черт, вместе бегали, – назвал мальчишку твоим именем. Не возражаешь?..» Братка не возражал.
Проказы, шалости, опасные игры, бесстрашное и безрассудное отстаивание от всех и вся мальчишеской независимости, рыбалка, походы за ягодами и сорочьими яйцами… – все это было и навсегда осталось в памяти. Но было и другое – тяжелый труд, недетская усталость, вечное недоедание и недосыпание. В том же рассказе «Далекие зимние вечера» повествуется далее, как на ночь глядя приходится идти мальчику с матерью в лес – обманул сосед, не привез дров – рубить там деревья и нести их на себе:
«Березка гудит и гнется в такт шагам, сильно нажимая на плечо. Ванька останавливается, перекладывает ее на другое плечо. Скоро онемело и это. Ванька то и дело останавливается и перекладывает комель березы с плеча на плечо. Стало жарко. Жаром пышет в лицо дорога.
– …Семисет семь, семисет восемь, семисет девять… – шепчет Ванька.
Идут.
– Притомился? – спрашивает мать.
– Еще малость… Девяносто семь, девяносто восемь… – Ванька прикусил губу и отчаянно швыркает носом. – Девяносто девять, сто! – Ванька сбросил с плеча березку и с удовольствием вытянулся прямо на дороге.
Мать поднимает его. Сидят на березке рядом. Ваньке очень хочется лечь. Он предлагает:
– Давай сдвинем обои березки вместе, и я на них лягу, если уж ты так боишься, что я захвораю.
Мать тормошит его, прижимает к теплой груди.
– Мужичок ты мой маленький, мужичок… Потерпи маленько. Большую мы тебе срубили. Надо было поменьше.
Ванька молчит. И молчит Ванькина гордость».
А потом, в избе, он уже не в силах дождаться, когда будет готово редчайшее и нечаянное в те дни лакомство – почти настоящие пельмени: «…кто—то осторожно берет его за плечи и валит на пол». Матери стоит огромных усилий разбудить его и маленькую сестру Талю (уменьшительное – от Наташи). Но и за столом спят, а едят, хотя маковой росинки за день во рту не было, через силу. Приходится – и это голодных! – заставлять есть.
Это – военной зимой. А что же весной, летом и осенью, когда полным ходом идут полевые работы и когда вести их, кроме женщин и подростков, некому?! Прочитайте внимательно рассказ Шукшина «Жатва» и вы поймете, каково ему приходилось в двенадцать, тринадцать и четырнадцать лет. А довольно отчетливое впечатление о его детстве получит тот читатель, который познакомится кроме уже упомянутых еще и с такими автобиографическими рассказами Шукшина, как «Племянник главбуха», «Демагоги», «Рыжий», «Дядя Ермо—лай», «Чужие», «Гоголь и Райка», «Бык», «Самолет» (последние три вместе с рассказами «Первое знакомство с городом» и «Жатва» как раз и составляют цикл «Из детских лет Ивана Попова»). Отдельные факты о детстве Шукшина можно почерпнуть также из статьи «Монолог на лестнице»… Но нас сейчас интересуют не столько факты – как бы ни были они замечательны сами по себе, – сколько внутренний мир подростка и юноши Васи Шукшина перед «годами ухода».
«На левой руке у него была татуировка – финский нож клинком к запястью. Простенькая, традиционная наколка на сильной жилистой руке, видная только, когда рукав рубашки завернут» – так начинает свои воспоминания о Шукшине Игорь Хуциев. (Мальчиком он много месяцев прожил в Одессе, где на местной киностудии в 1957 году его отец, кинорежиссер Марлен Хуциев, снимал свой фильм «Два Федора». В этой картине, еще будучи студентом ВГИКа, сыграл свою первую – и сразу главную! – роль Василий Шукшин. «Дядя Вася» часто приходил в маленькую комнату студийной гостиницы, где жили Хуциевы, и мальчик считал, что он ходит именно к нему, и часто приставал, чтобы тот что—нибудь ему рассказал.)
Ну? Не приснилась ли эта наколка Игорю Хуциеву?.. И, заметьте, не традиционный морской якорек, каким «украшали» себя еще нередко в сороковых и пятидесятых годах иные матросы, не маяк, не корабль, не кортик даже, – а финский нож. О чем—то это пусть косвенно, но свидетельствует. И – что еще характерно – позднее Шукшин эту юношескую татуировку вытравил: очень близкие ему в середине шестидесятых годов люди свидетельствуют – никаких «знаков» на его левой руке видно уже не было… А вот еще отрывок из воспоминаний И. Хуциева:
«Однажды во время очередной моей болезни он спел мне песню. Не спел, рассказал, скорее. Грустная история, о тюрьме. О том, как мать—старушка принесла сыну передачку. Не передачу, передачку.
Я спросил, что она принесла.
– Ну колобушу, знаешь, что это такое? Хлеб такой круглый. Молока бутылку принесла, наверное. Завернула в полотенце.
И, рассказывая, что ответил старушке сторож, как он усмехнулся ей в ответ, он сам тоже усмехнулся зло, прищурился, глядя в сторону, проговорил: «Вчера ночью был расстрел!» – и махнул рукой.
Потом, много лет спустя, я прочел рассказ, его рассказ «В воскресенье мать—старушка». Весь рассказ об этой песне (с этим утверждением согласиться нельзя: рассказ о другом, а песня эта – лишь для характерного эпизода. – В. К.). Но в этом рассказе она жалостная, жалостливая, и поют ее так, чтобы растрогать. А сам он ее по—другому пел—рассказывал. Пел и сам удивлялся, как же это могло так случиться, откуда же в людях столько жестокости? И эта спокойная жестокость, усмешка сторожа и его веселый, как о самом обычном деле, ответ: «Вчера ночью был расстрел!» – больше всего потрясали в этом рассказе. Помню, я плакал тогда».
…Откуда, откуда вообще у него было знание подобных блатных и тюремных песен?! И ведь не одна такая фигурирует в его прозе. Тут еще не только расхожая, по кинофильмам затрепанная «Таганка, все ночи полные огня…», но и «А в камере смертной, сырой и холодной…», и «Будь проклята ты, Колыма…», и «И в воздухе блеснуло два ножа»… Впрочем, на этом, кажется, «список» подобных песен в его произведениях в основном исчерпан. Совсем не много, особенно в сравнении с тем огромным количеством народных песен, выплеснувшихся на страницах шукшинских книг и в его фильмах. Тем не менее вопрос возник не случайный – откуда? Не в родном же селе он все их услышал – не прививаются такие в деревне, сам же он об этом и писал в рассказе «Степка» (здесь, кстати, фигурирует еще одна такая песня): «Он (герой рассказа. – В. К.) рад был, что людям сейчас хорошо, что он им доставил удовольствие, позволил им собраться вместе, поговорить, посмеяться… И чтоб им было совсем хорошо, он запел трогательную песню тех мест, откуда только что прибыл:
Прости мне, ма—ать,
За все мои поступки,
Что я порой не слушалась тебя—а!..
На минуту притихли было; Степана целиком захватило чувство содеянного добра и любви к людям. Он заметно хмелел.
Эх, я думала—а, что тюрьма, д, это шутка,
И этой шуткой сгубила, д, я себя—а! —
пел Степан.
Песня не понравилась – не оценили чувства раскаявшейся грешницы, не тронуло оно их…
Кто—то поднял песню. Свою. Родную.
Оте—ец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с им…
Песню подхватили».
Но что говорить о блатных и тюремных песнях, когда сами—то – и многие! – шукшинские герои…
Сбежал, не досидев два месяца до окончания срока наказания, герой только что цитированного рассказа; бежит из лагеря и совершает новое преступление некий уголовник «Коля—профессор» в рассказе «Охота жить»; побывали в тюрьме Спирька Расторгуев («Сураз»), Сергей Сергеевич («Свояк Сергей Сергеевич»), Борька Куликов («Ораторский прием») и супруги Смородины («Пьедестал»); орудует вор в «Печках—лавочках» и выпендривается урка в повести «А поутру они проснулись…». Да что там отдельные персонажи! В повестях «Там, вдали», «Энергичные люди» и «Калина красная» целые воровские компании, шайки действуют! А если припомнить то «арго» – блатной жаргон, на котором порой нет—нет да изъясняются шукшинские герои?.. А эти – нередкие у него в произведениях – «прокурор», «адвокат», «следователь»?..
Откуда он, такой стойкий шукшинский интерес к людям, переступившим закон?!
Конечно, не только (и не столько!) о них он писал, но все—таки? Все—таки это – исковерканные судьбы одних из них, несчастных и заблудших, и то, как бороться с другими, самыми мерзкими и циничными – все это поистине мучило его, терзало. И не только в творчестве, но и в самой, так сказать, повседневной жизни. Какую же душевную боль надо чувствовать, чтобы оставить в рабочей тетради такую вот, поистине кричащую, а с точки зрения юристов, возможно, и беспомощную, запись (приведем ее, учитывая всю важность и ответственность этого нашего разговора, полностью):
«Сел как—то и прочитал уйму молодежных газет. И там много статей – про хулиганов и как с ними бороться. Вай—вай—вай!.. Чего там только нет! И что „надо“, и что „должны“, и что „обязаны“ – бороться. Как бороться? Ну давайте будем трезвыми людьми. Я иду поздно ночью. Навстречу – хулиганы. Я вижу, что – хулиганы. Хуже – кажется, грабители. Сейчас предложат снять часы и костюм. Сейчас я буду делать марафон в трусах. Ну а если я парень не из робких? Если я готов не снести унижения? Если, если… У них ножи и кастеты. Им – „положено“. Мне не положено. И я – делаю марафон в
трусах. Не полезу же я с голыми руками на ножи! И стыжусь себя, и ненавижу, и ненавижу… милицию. Не за то, что ее в тот момент не было – не ведьма же она, чтоб по всякому зову быть на месте происшествия, – за то, что у меня ничего нет под рукой. Мне так вбили в голову, что всякий, кто положил нож в карман, – преступник. Хулигану, грабителю – раздолье! Он знает, что все прохожие перед ним – овцы. Он – с ножом. Ему можно.
Представим другую картину. Двое идут навстречу одному.
– Снимай часы!
Вместо часов гражданин вынимает из кармана – нож. Хоть неравная борьба, но – справедливая. Попробуйте их взять, эти часы. Часы кусаются. Допустим, борьба закончилась 0:0. Всех трех забрали в милицию.
– Они хотели отнять у меня часы!
– Откуда у вас нож? Почему?
– Взял на всякий случай…
– Вы знаете, что за ношение холодного оружия… Знаем. Все знаем…
Как же мы искореним хулиганство, если нам нечем от них отбиться?! Получается: кто взял нож, тот и пан.
А что, если бы так, кто возымел желание взять нож и встретить на улице запоздалого прохожего, вдруг подумал: «А вдруг у него тоже нож?» Гарантирую: 50 процентов оставили бы эту мысль. Из оставшейся половины – решительных – половина бы унесла ноги в руках».
…Чем больше и внимательнее я вчитывался в шукшинские тексты и воспоминания о нем, тем отчетливее убеждался: к свидетельству Б. Никитчанова необходимо отнестись самым серьезным образом. Постепенно, в результате многих размышлений, сопоставлений, а также дополнительных разысканий и бесед—консультаций с близкими Шукшину людьми (весь ход исследовательского поиска воспроизвести здесь невозможно, да, наверное, и не нужно), у меня сложилось следующее представление о годах первой молодости и характере Васи Шукшина.
* * *
Он уходил из родного села (не дома – там, если и не понимали его, то все равно прощали – своя кровь) как изгой, как «непутевый». Он уходил не только прокормиться, хотя эта статья и была решающей для едва сводящих концы с концами родных, он уходил еще и доказать всем землякам, что они напрасно относились к нему без должного почтения – иронизировали над ним, насмехались, стыдили, осуждали – не верили в него и его будущность. Желание доказать было в нем болезненно острым – он был самолюбивый, гордый и дерзкий юноша, – но как и чем доказать – это Вася Шукшин представлял себе еще смутно, хотя и были им уже сделаны (о чем мне рассказывала его мать) первые пробы пера. Кроме того, если пугал даже ближний город – Бийск, в котором он все же прожил какое—то время во время учебы в техникуме, – а как там встретят другие, еще большие и совсем уж чужие города?.. Впрочем, здесь надо уточнить: не город сам по себе пугал и страшил его, а некоторые городские люди, их высокомерное отношение к сельским жителям. Еще были свежи его воспоминания о техникуме, а там царила такая вот атмосфера:
«Городские ребята не любили нас, деревенских, смеялись над нами, презирали. Называли „чертями“ и „рогалями“… В четырнадцать лет презрение очень больно и ясно сознаешь, и уже чувствуешь в себе кое—какую силенку – она порождает желание мстить. Потом, когда освоились, мы обижать себя не давали. Помню, Шуя, крепыш парень, подсадистый и хлесткий, закатал в лоб одному городскому журавлю, и тот летел – только что не курлыкал. Жаренок в страшную минуту, когда надо было решиться, решился – схватил нож… Тот, кто стоял против него – тоже с ножом, – очень удивился. И это—то – что он только удивился – толкнуло меня к нему с голыми кулаками. Надо было защищаться – мы защищались. Иногда – так вот – безрассудно, иногда с изобретательностью поразительной».
Впрочем, сам техникум был здесь, пожалуй, ни при чем. Ведь еще до учебы там начались столкновения. «…Мы, – говорит Шукшин в том же прямо автобиографическом рассказе „Самолет“, – шли с сундучками в гору, и с нами вместе налегке – городские. Они тоже шли поступать. Наши сундучки не давали им покоя.
– Чяво там, Ваня? Сальса шматок, да мядку туясок?
– Сейчас раскошелитесь, черти! Все вытряхнем!
– Гроши—то куда запрятали?.. Куркули, в рот вам пароход!.. Откуда она бралась, эта злость, – такая осмысленная, не четырнадцатилетняя, обидная? Что, они не знали, что в деревне голодно? У них тут хоть карточки какие—то, о них думают, там – ничего, как хочешь, так выживай. Мы молчали, изумленные, подавленные столь открытой враждебностью».
Нет, дело было именно в «гранях», в психологических, я бы сказал, гранях между городом и селом тех лет. И влияли тут десятки причин, главными из которых были: недостаточно высокий в целом культурный уровень населения и перегибы при ведении коллективизации, узколобый взгляд на крестьянина как на потенциального собственника и «куркуля» – взгляд в действительности – как мы знаем из истории партии – уже преодоленный, но в сознании и представлении некоторых городских жителей в то время еще бытующий.
…Растерянный внутренне и взволнованный, остро нуждающийся и в моральной, и в физической человеческой поддержке шестнадцатилетний Вася Шукшин приехал в неведомый Новосибирск к неведомом дальнему родственнику, чтобы с его помощью как—то и где—то пристроиться на первых порах. Но то ли он не разыскал родственника, то ли встретил тот его плохо (это мы уже не узнаем), но очутился он снова на вокзале, и мысли его были горькие. Возвращаться, как побитая собака назад к хозяину, опять в Сростки, чтобы вызвать новый град насмешек и обидных слов? Под укоряющие взгляды родни: опять, мол, не смог? Нет, все, что угодно, – только не это… Да и как же там жить? А как здесь?.. Переночевать, пересидеть ночь на вокзале, а утром идти искать какую—нибудь работу?.. Какую? Никакой городской специальности у него нет, недоучка—автомеханик никому здесь не нужен, одних танкист
Без всякого преувеличения можно заключить, что в большинстве случаев Василий Макарович Шукшин «раскрывал» и «вскрывал» нам не преступника вообще, а определенный тип его, не очень—то, будем прямо говорить, распространенный. Зато – это надо понять – наиболее, быть может, страшный тип. Такие особенно опасны для общества, ибо пользуются не только материальным достоянием общества и граждан, но берут в полон «разными словами» еще и души людей, особенно слабых, особенно молодых…
«Изящный молодой человек», который участливо подошел на вокзале к шестнадцатилетнему Васе Шукшину, несомненно, обладал некоторыми, как мы сейчас бы сказали, человеческими талантами. Он умел говорить «красиво», умел пускать пыль в глаза. Тогда еще не определилось понятие «супермен», но его с лихвой заменяло окутанное блатными и – опять—таки! – «красивыми» легендами определение «вор в законе». Впрочем, вором себя, хотя бы и «в законе», этот «изящный молодой человек» конечно же не называл. Цель же его была по своей сути весьма проста – загребать жар чужими руками. Может быть, он вышел на свободу по большой амнистии, объявленной после великой победы нашего народа в Отечественной войне, может быть, паразитировал на горе вдов и сирот в тылу – суть не в этом. Он был «профессионал» большого полета, он сколачивал шайку из таких, которые бы не только боялись его и слушались из одного страха, но чувствовали бы себя чем—то ему обязанными, уважали его, служили не за страх, а за совесть и даже – чувствовали к нему душевную симпатию. Может быть, было в нем нечто мефистофельское. Во всяком случае, очаровывать, выведывать в душах самое сокровенное, заветное, а потом это же сокровенное употребить, направить на собственную корыстную пользу, этим же заветным помыкать, управлять своей неслучайной жертвой – это доставляло ему не только своеобразное, но и большое удовольствие.
Вася Шукшин, как мы уже говорили, никакой обиды не терпел, она его мучила, жгла; был он гордый, даже своевольный и «среди мальчишек всегда герой». Был он внешне угловат и грубоват, но под наносной грубостью скрывались нежность, любовь ко всему миру и особенно к родному, скрывалась незащищенность. К тому же он хотел доказать, к тому же он мечтал, он пробовал уже писать и играть. Но он, как мы уже говорили, был на жизненном перепутье, остро нуждался и в моральной и физической поддержке. То ли от природы у «изящного» было какое—то особенное чутье, которого так не хватает иным нашим педагогам, то ли сам Вася находился тогда в «исповедальном» состоянии, но тому, кто подошел к нему на вокзале, удалось – пусть даже и не сразу – вызвать юношу на откровенность, на полную откровенность.
«Губошлеп» и накормил, и утешил, и обогрел, и наобещал с три короба. А ведь как легко обольститься, придумать себе что—то в шестнадцать лет! Что стоило «изящному» прийти в фальшивый восторг от тех нескладных виршей, что показал «понимающему» человеку доверившийся юноша! Что стоило ему, когда крестьянский сын слегка захмелел от щедро предложенной выпивки и, как прежде, в ответственные минуты жизни, «оторвал от хвоста грудинку», проплясал от души свой «коронный номер» – «барыню» (вспомним снова рассказ «Далекие зимние вечера»), что стоило ему объявить во всеуслышание, что у «писателя» ко всему прочему еще и замечательные задатки большого артиста! А может быть, и не только «барыню» показал новичок, но и то, как он передразнивал «с украинским акцентом» некоторых односельчан, а также рассказал – продемонстрировал что—то? – о школьном драмкружке, в котором он активно и самозабвенно участвовал (см. воспоминания А. Куксина в «Комсомольской правде» от 18 августа 1976 года и воспоминания Л. Чикина в «Сибирских огнях», № 1, 1978).
Сыграв на заветных струнах неопытной души, было уже не столь трудно убедить юношу, что, обретаясь именно с ним – «Губошлепом», странствуя из города в город, он в конце концов узнает жизнь и людей не хуже Максима Горького, получит замечательный «литературный материал». К тому же он научится «играть», ибо «изящный» и его компания не какие—нибудь там простые, заурядные воры, они – артисты. (В «Калине…» читаем: «Начальник недовольно оглядел Егора… – Что это за… почему так одет—то? – Егор был в сапогах, в рубахе—косоворотке, в фуфайке и каком—то форменном картузе....
– не то сельский шофер, не то слесарь—сантехник, с легким намеком на участие в художественной самодеятельности. Егор мельком оглядел себя, усмехнулся. – Так надо было по роли. А потом уже не успел переодеться».) К тому же… «писателя» ничем обременительным и «грязным» не загрузят, разве что так, иногда «по мелочишке суффиксов и флексий» (как говаривал «конструктор» в «Печках—лавочках», жалуясь Ивану Расторгуеву на отсутствие «настоящей творческой работы») – «писатель» будет в основном наблюдателем и летописцем – «нашим Пименом».
Мягко стелют губошлепы всех времен!
Степан Разин и его вольница вошли в шукшинскую жизнь впервые именно тогда. Песня «Из—за острова на стрежень…» была известна нашему молодому герою, может быть, и раньше, но в родных его Сростках всегда говорили больше про другого народного героя – Пугачева. «Село двести лет стоит, – писал он годы спустя в одной из статей, – здесь хранят память о Пугачеве (предки, разбегаясь после разгрома восстания, селились, основали село)…» Тот же «Губошлеп» мог рассказать ему на берегу Волги о великом «разбойнике», царившем на этих берегах, да и без него могли об этом поведать местные жители, хотя бы у ночных костров перед рыбалкой в весеннее половодье (где же ночевать «свободным» людям, как не на берегу реки).
Уже в Казани – еще месяц не прошел с той поры, как он покинул родимый дом, – его начали «натаскивать». Душа юноши воспротивилась, а в сердце укоренилось сомнение в «благих намерениях» и «красивых» словах «изящного молодого человека». Но он уже понимал, что «выступить» против того открыто – нельзя, очень и очень опасно. На время его убаюкали, представили будущую жизнь в романтическом ореоле – чуть ли не путеводную звезду показали речи нового знакомого, так вроде искренне, с большим участием обогревшего и поддержавшего его на распутье. Но не так уж много времени потребовалось, чтобы убедиться: за «красивыми», манившими словами того стояли ложь и расчет. Нельзя было верить «Губошлепу», но он разуверился – так понятен этот юношеский максимализм – и в тех словах, которые ему нашептывал этот молодой негодяй.
Шукшин постарался вытравить из сердца то, что было захватано грязными словами и щедрыми обещаниями «Губошлепа». Он поставил – и думал, что навсегда, – крест на «писателе» и «артисте». Сокровенная, такая смутная еще и томительная мечта была растоптана, над ней надругались, ее осквернили. Верить в мечту было уже нельзя. «Мечты, мечты, где ваша сладость? Где вечная к ним рифма младость?» Младость резко оборвалась, мечта была наотмашь перечеркнута. Вернуться бы сейчас домой, на родину, в Сростки. Но вернуться было нельзя – и не только по материальным причинам – какие же деньги нужны? – но и потому, что нельзя было вернуться таким. Надо было где—то прибиться к берегу, зализать душевные раны, успокоиться и начать новую жизнь, без всяких там мечтаний и обольщений…
Все в повести «Калина красная» подлинно! Все верно. «Интеллектуальные» и «философствующие» преступники в произведениях Шукшина не придуманы. Он видел, знал таких «артистов», а потому про них и говорил. Другое дело, что непосредственный опыт его общения с подобными был краткосрочен, хотя душевное потрясение было велико и трагично. Другое дело – что он так и не узнал их до конца. Не узнал, зато почувствовал, понял их душонки и попытался потом нам их показать. Художник в «Калине красной» и некоторых других произведениях боролся с непосредственными своими воспоминаниями и непосредственными чувствами и не всегда выходил тут победителем, может быть, и в ущерб целому. Он помнил «Губошлепа» молодым, помнил, что у того был именно наган, помнил «красивые» жесты и слова его. Правда, подлинность тех лет невольно вошла в противоречие с нашим временем, и, ставя фильм, он это почувствовал и в большинстве случаев исправил.
Анатолий Марета – надо отдать должное этому пытливому газетчику – продолжал поиск подробностей матросских лет Василия Шукшина. Ему удалось разыскать бывшего командира отделения, в котором служил Шукшин, – Николая Филипповича Шмакова. Тот сообщил следующее:
«В июне (или, быть может, в мае) 1950 года к нам прибыла группа молодых матросов, окончивших радиокурсы. Два или три матроса были зачислены в мое отделение, и среди них – Шукшин. Он сразу обратил на себя внимание своей серьезностью, взрослостью, обостренной ответственностью за выполнение воинского долга. Был исполнителен, трудолюбив, работал молча, сосредоточенно. Несмотря на отсутствие большого опыта, нес радиовахты наравне с лучшими специалистами. Неудивительно, что вскоре он повысил классность, его назначили на должность старшего радиотелеграфиста, присвоили звание старшего матроса.
Выделялся он среди сослуживцев и характером. В общежитии с товарищами был краток, пустословия не любил, но суждения его имели авторитет. Много читал, посещал Севастопольскую Морскую библиотеку, а вот писал ли что—нибудь – не могу сказать. Может быть, и пробовал в те годы, но никто об этом не знал. Вообще Василий Макарович был несколько замкнут, задумчив».
Мы сваливать не вправе
Вину свою на жизнь.
Кто едет, Тот и правит,
Поехал, так держись!
Николай Рубцов
Шукшин несколько раз упоминал в некоторых интервью и статьях «книгу юности» – «Мартин Иден», высоко ценил в целом Джека Лондона как писателя, не раз вспоминал о нем в задушевных товарищеских беседах о литературе (см. об этом, например, в воспоминаниях Л. Чикина). «Эта книга, – говорит В. Мерзликин, – была им не просто прочитана, а изучена еще до 1950 года». По тому же свидетельству, молодой Шукшин даже во внешних каких—то черточках и манерах подражал Мартину Идену.
Как много внутренне сходного у Мартина Идена и Шукшина! К тому же можно было без особого труда заключить, что молодой Василий Макарович воспринял эту книгу еще и как своего рода руководство к действию, как «писательский самоучитель».
* * *
«Иным людям, – говорит в романе Мартин Иден, – нужны проводники. Это так. А мне кажется, что я могу обойтись и без них. Я уже довольно повертелся возле этих карт и знаю, которые мне нужны, и какие берега мне исследовать, я тоже знаю (Иден, как читатель помнит, бывший матрос.). Один я гораздо скорее исследую их. Скорость флота меряется всегда по скорости самого тихоходного судна. Ну вот, то же самое и со школой. Учителя должны равняться по самым тихоходным ученикам, а я один могу идти быстрее».
Не потому ли и молодой Шукшин решил, что один он сможет идти быстрее, сможет обойтись без посещения вечерней школы, сдать экзамены экстерном?.. Подражание, следование Мартину Идену неминуемо приводили к воспитанию железной воли, к строгому и даже аскетическому образу жизни. Герой Джека Лондона говорил о себе: «Знаете ли вы, что я давно забыл, что значит уснуть спокойно и безмятежно? Мне иногда кажется, что миллионы лет прошли с той поры, когда я спал столько, сколько мне нужно, и просыпался просто оттого, что выспался… Когда я чувствую, что меня клонит ко сну, я заменяю трудную книгу более легкой. А если я и над этой книгой начинаю клевать носом, то бью себя кулаком по голове, чтобы прогнать сон. Помните, у Киплинга – о человеке, который боялся спать? Он пристраивал в постели шпору так, что, если он засыпал, стальной шип вонзался ему в тело. Я делал то же самое. Я решал, что не должен заснуть до полуночи, до часу, до двух… И шпора не давала мне засыпать до положенного времени. Я не расставался с этой шпорой в течение многих месяцев. Я дошел до того, что сон в пять с половиной часов стал уже для меня недопустимой роскошью. Теперь я сплю всего четыре часа». То же самое мог рассказать о себе не только совсем молодой Шукшин, но – и еще в большей степени – Шукшин тридцатилетний и сорокалетний. С той только разницей, что он не пристраивал стальную шпору, а пил стакан за стаканом черный кофе, тер до боли в глазах виски и курил сигарету за сигаретой.
Немало ему дал Мартин Иден и для понимания подлинной литературы и ее задач, а также для того – как, где и в чем искать ему собственную творческую дорогу, как и у кого учиться литературному мастерству.
По—прежнему Шукшин предпочитал молчать о своих высоких намерениях и планах. И даже спустя годы он скажет в интервью так:
«Меня спрашивают, как это случилось, что я, деревенский парень, вдруг все бросил и уехал в Москву в Литературный институт (правда, туда меня, понятное дело, не приняли – за душой не было ни одной написанной строки: поступил на режиссерский факультет в мастерскую М. И. Ромма).
Сама потребность взяться за перо лежит, думается, в душе растревоженной. Трудно найти другую побудительную причину, чем ту, что заставляет человека, знающего что—то, поделиться своими знаниями с другими людьми».
«Письменную работу» Шукшина – не так уж и много было отличных оценок – прочитал потом, перед встречей с реальным кандидатом в студенты, и Ромм. Не будем гадать, как он отнесся к пассажу о собственных «грустных глазах». Во всяком случае, не одним этим, а всем строем сочинения, его обезоруживающей откровенностью и искренностью, абсолютно личностной его окраской (шукшинское «мы», как читатель убедился, вполне здесь прозрачно) обращал на себя внимание абитуриент с Алтая. «Потом (то есть после „письменной работы“. – В. К.), – вспоминал Шукшин в уже упомянутой небольшой заметке, опубликованной в газете «Советское кино», – произошло знакомство с Михаилом Ильичом Роммом. Абитуриенты в коридоре нарисовали страшную картину: человека, который на тебя сейчас глянет и испепелит. А посмотрели на меня глаза удивительно добрые. Стал расспрашивать больше о жизни, о литературе. К счастью, литературу я всегда любил, читал много, но сумбурно, беспорядочно… Ужас экзамена вылился для меня в очень человечный и искренний разговор. Вся судьба моя тут, в этом разговоре, наверное, и решилась».
Шукшин понравился Ромму самостоятельностью, независимостью и зрелостью суждений и тем, что был он человеком, уже немало повидавшим и испытавшим в жизни. Ромм стремился набирать в свою мастерскую людей очень и очень разных, абсолютно не похожих ни по воспитанию, ни по образованию, ни по (еще, конечно, только угадываемым) творческим устремлениям. Шукшин же явно выбивался, даже внешним видом, из потока абитуриентов. Кроме того, Ромму понравилось то, как страстно, как лично заинтересованно говорил он о «Мартине Идене».
Шукшина, как и других «незаконных» и лучших представителей нашей доморощенной богемы, постоянно волновало и тревожило чувство неправедности, ощущение вычурности и придуманности, фальши, лживости и вообще – «незаконнорожденности» подобной, громкой внешне и убогой внутренне жизни. Не слишком ли много развелось «непризнанных гениев», непонятых и непонятных современникам «изгоев»? Не слишком ли много в них позы, «игры»? И что же они в конце концов делают и сделали?.. Подобные вопросы не могли не тревожить Шукшина. Есть полное основание предполагать, что позднее Василий Макарович не только читал, но и полностью разделял жизненную и художническую суть таких вот – выстраданных в схожей творческой судьбе! – поэтических строк Николая Рубцова:
…Поэт, как волк, напьется натощак.
И неподвижно, словно на портрете,
Все тяжелей сидит на табурете,
И все молчит, не двигаясь никак.
А перед ним, кому—то подражая
И суетясь, как все по городам,
Сидит и курит женщина чужая… —
Ах, почему вы курите, мадам!
Он говорит, что все уходит прочь,
И всякий путь оплакивает ветер,
Что странный бред, похожий на медведя,
Его опять преследовал всю ночь,
Он говорит, что мы одних кровей,
И на меня указывает пальцем,
А мне неловко выглядеть страдальцем,
И я смеюсь, чтоб выглядеть живей.
И думал я: «Какой же ты поэт,
Когда среди бессмысленного пира
Слышна все реже гаснущая лира,
И странный шум ей слышится в ответ?»…
Но все они опутаны всерьез
Какой—то общей нервною системой:
Случайный крик, раздавшись над богемой,
Доводит всех до крика и до слез!
И все торчит.
В дверях торчит сосед,
Торчат за ним разбуженные тетки,
Торчат слова,
Торчит бутылка водки,
Торчит в окне бессмысленный рассвет!
Опять стекло туманное в дожде,
Опять туманом тянет и ознобом…
Когда толпа потянется за гробом,
Ведь кто—то скажет:
«Он сгорел… в труде».
Это стихотворение – называется оно «В гостях», – отрывок из которого мы привели, написано замечательным, безвременно погибшим русским поэтом Николаем Рубцовым в 1962 году.
Добрые чувства Беллы Ахмадулиной к Шукшину, светлая память ее о днях молодости, многие из которых протекли вместе с ним, сомнению не подлежат.
Ахмадулина говорит, что ходили они по домам добрых радушных людей, что Шукшин ошибался, полагая, что на него здесь косятся, стремятся как—то унизить, что он совершенно на пустом месте, зря, из—за какой—то деревенской мнительности «причинял себе лишнее и несправедливое терзание», был мрачен и дичился, не отвечал на любезности, держал в лице неприступно загнанное выражение
Шукшин же вспоминал и рассказывал некоторым близким друзьям и совсем иные «сюжеты», какие возникали «в гостях» у «свободных интеллигентов». Так, однажды он отошел из—за стола умыть холодной водой разгоряченное лицо и услышал нечаянно, как хозяин дома, член Союза писателей, называющий себя поэтом, но подвизавшийся в основном как переводчик, рифмующий подстрочники, сказал шукшинской спутнице: «Белла, как можете Вы, такая изящная, такая интеллигентная, общаться с этим сибирским сапогом, с этой грязью…» Шукшина затрясло, вбежав в комнату, он выпалил в адрес «интеллигента—литератора» несколько оскорбительных слов и едва удержал себя от оскорбления действием. В других домах до подобных инцидентов не доходило, хозяева вели себя умнее, но Шукшин с его великим и тончайшим человеческим и художественным чутьем почти всегда верно улавливал чуждость ему, внутреннюю холодность той атмосферы, в которую он, стараниями поэтессы и ее друзей, попадал. В нем чувствовали талант, силу и самобытность, отдавали им должное и, может быть, именно поэтому его старались и стремились – пусть даже неосознанно – как бы «приручить», «обтесать», «окультурить». И чем больше для этого прикладывалось усилий, тем мощнее противился Шукшин.
Шукшин был – другой, его волновала прямая, грубая, реальнейшая человеческая жизнь, высокая правда и поэзия этой жизни, и смотрел он на эту жизнь ничем не прикрытыми глазами и писал ее, минуя книжные и прочие культурные «очистители», пропуская увиденную и самим прожитую жизнь через единственный возможный и единственный признаваемый им фильтр – собственное сердце, через страстную, ранимую, мятущуюся и нежную душу. Шукшин безраздельно чтил, любил самой своей высокой любовью другого Поэта – Сергея Есенина. Он ощущал его не просто близким и дорогим, а именно родным по духу.
Он ведь уже ощущал себя именно русским, национальным художником.
За месяц с небольшим до смерти Василий Макарович в расширенной авторской аннотации, написанной по просьбе издательства «Молодая гвардия» (где предполагался выход его однотомника), скажет так: «Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту… Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий русский язык, он передан нам нашими дедами и отцами – стоит ли отдавать его за некий трескучий, так называемый „городской язык“, коим владеют все те же ловкие люди, что и жить как будто умеют, и насквозь фальшивы. Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания – не отдавай всего этого за понюх табаку…» А среди посмертно опубликованных его рабочих записей есть такая: «Не теперь, нет.
Важно прорваться в будущую Россию».
И разве не русский национальный характер или отдельные его черты стремился передать Шукшин во многих своих произведениях! Разве не о современной ему России, ее проблемах и ее людях страстно говорят едва ли не каждая страница его публицистики, его фильмы, его роли!..
Нет, не мог Шукшин «существовать – всеземно, всемирно, обратив ум и душу раструбом ко всему, что есть, что было…». Он разделял, глубоко верил в другую истину: кто не принадлежит Отечеству, тот не принадлежит и человечеству. Ум и душу он обращал к своему народу, к своей Родине. Он жил и творил именно как русский писатель
Белла Ахмадулина -журналистка в фильме-Живет такой парень Шукшина
Людмила Легчило
Вдалеке от любопытных окон,
Будто бы пришлась не ко двору,
Белая березка одиноко
В легком платье зябла на ветру.
А внизу по берегу Катуни
Серпантином вился Чуйский тракт.
Спорили две вечные колдуньи,
Не решался спор у них никак.
То зовет дороженька и манит:
«Ничего, что путь в Москву далек…»
То река журчит: «Не верь, обманет,
Оставайся дома, Василек».
Разговор с березкой был не длинный,
Мол, вернется, к ней еще придет.
Он не знал, что красная калина
Под венцом судьбы, тоскуя, ждет.
Бросил свой комбайн и старый трактор
И другие важные дела.
Узкая дорога вышла к тракту
И по жизни парня повела.
Он достиг высот и пьедесталов,
Твердо на ногах своих стоял,
Все равно душа во сне летала
В бийские холодные края.
Улетев однажды, не вернулась.
Может, по дороге кто поймал?
С бренным телом как-то разминулась,
Почему, никто не понимал.
Заливалась горькими слезами
Белая березка, как жена.
Появлялись рядом с образами
В деревнях портреты Шукшина.
Он ушел на веки, но не сгинул,
Просто повернул за поворот.
Почему же горькую калину
Земляки сажают у ворот?
Далеко до Сростков – не дойти мне.
Кто-нибудь! Спасите мою честь:
Поклонитесь за меня калине
И березке, … если она есть.
Чуйский тракт времен Шукшина
Милая Таня!!! (извините за фамильярность), изумлён,покорён и восхищён!!! Ваш труд заслуживает степени доктора (кандидата) искусствоведения! А может у Вас эта степень есть? ПОТРЯСАЮЩЕ! СПАСИБО!!!
Таня, спасибо огромное! Замечательная, искренняя, от души подборка! Просто чудесная!
ДАААААААААА.слов нет!! просто здорово!! прочел одним махом от корки до корки...............
Писала о Шукшине в 2011.
Гена ушел 16 сентября 2013.
Еще б тебе не понравился Шукшин, Геночка...ты, как и Шукшин, как Николай Рубцов, был замечательным русским МУЖИКОМ с сердцем хулигана.......
Мир душе Твоей, Гена.
4 года тебя уже нет с нами.
Светлая Память.....

Евгений Евтушенко
Памяти Шукшина
В искусстве уютно
быть сдобною булкой французской,
но так не накормишь
ни вдов,
ни калек,
ни сирот.
Шукшин был горбушкой
с калиною красной вприкуску,
черняшкою той,
без которой немыслим народ.
Шли толпами к гробу
почти от Тишинского рынка.
Дыханьем колеблемый воздух
чуть слышно дрожал.
Как будто России самой
остановленная кровинка,
весь в красной калине,
художник российский лежал
Когда мы взошли
на тяжелой закваске мужицкой.
нас тянет к природе,
к есенинским чистым стихам.
Нам с ложью не сжиться,
в уюте ужей не ужиться,
и сердце как сокол,
как связанный Разин Степан.
Искусство народно,
когда в нем не сахар обмана,
а солью родимой земли
просолилось навек.
...Мечта Шукшина
о несбывшейся роли Степана,
как Волга, взбугрилась на миг
подо льдом
замороженных
век.
1974
Ну и, конечно-РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ!
Памяти Василия Шукшина
До крайнего порога
вели его,
спеша,
Алтайская порода
и добрая душа…
Пожалуйста, ответьте,
прервав
хвалебный вой:
вы что,
узнав о смерти,
прочли его
впервой?!
Пожалуйста, скажите,
уняв
взыгравший пыл,
неужто он
при жизни
хоть в чем-то хуже
был?!
Поминные застолья,
заупокойный звон…
Талантливее —
что ли —
стал
в чёрной рамке
он?!
Убийственно жестоки,
намеренно горьки
посмертные
восторги,
надгробные
дружки.
Столбы словесной пыли
и фимиамный дым…
А где ж вы раньше
были,
когда он
был
живым?
1974

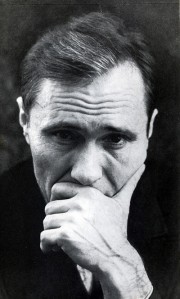







___keepration_220x220.jpg)




ВАСИЛИЙ ШУКШИН.......